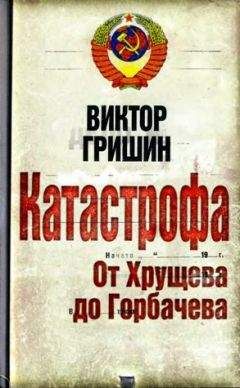Антон Крайний говорит об оскудении литературы современности, о «падении человеческой талантливости».
Кроме еще нескольких столь же интересных статей, есть в «Числах» обширный библиографический отдел. И в статьях, и в кратких рецензиях – один подход к литературным произведениям, один критерий, упомянутый Антоном Крайним: «поиски человеческой талантливости».
«Числа» дают огромный материал, и этот материал настолько ценен, настолько своевременен, что с болью читаешь на обратной стороне заголовного листа: «настоящий сборник набран и отпечатан в мае тысяча девятьсот тридцать третьего года в типографии Паскаль в количестве шестисот экземпляров на бумаге альфа». Уже шестисот, – тогда как первый номер вышел в количестве более чем тысяча.
Еще раз констатируешь факт: люди не покупают нынче книг.
Россия (не С С С Р, и даже не эмиграция, а вечная Россия русского мессианского сознания) пережила недавно невозместимую потерю. В СССР., видимо, от лишений и недоедания, на пятьдесят четвертом году жизни умер Андрей Белый.
Нельзя даже приближенно передать, что Россия потеряла с этою смертью… Пройдет время. Имя Белого и весь его облик – в буквальном смысле пророческий – будут всё далее уходить от нас в вечность, над тайной которой Белый столько бился, и по мере этого увеличиваться. Лет через пятнадцать Белый обрастет огромной литературой, которая воздаст ему должное и возведет, по крайней мере, к Гоголю и Достоевскому. В этом не может быть никаких сомнений!.. Белый своею мыслью озарил и оплодотворил десятки, если не сотни, писателей. Его мысль всю его жизнь не уставала работать в самых разнообразных областях, для него не было ничего мертвого и неинтересного. Как художник он создал ряд романов, среди которых «Петербург» – несомненно, величайший после романов Толстого и Достоевского. Как поэта его также без малейшей натяжки можно возвести до самых вершин русской поэзии. Как критик и как философ он не менее замечателен. От него пошли современные критики-формалисты, футуризм много попользовался Белым, символизм в его лице имел самого блестящего теоретика. Как от кремня, от Белого во всех направлениях летели искры. Эти искры разбросаны по его многочисленным писаниям. «Имеющие уши» подхватывали эти искры и лелеяли, и долго еще будут подхватывать и лелеять.
Сейчас – ужасно даже подумать, ужасно сопоставить тот гигантский облик, до которого разрастется Белый, хотя бы через десять лет, с мыслью о том, что ведь Андрей Белый в начале января 1934-го года умер, и умер от тяжелых условий жизни, вероятно, в нетопленой московской комнате, питаясь хлебом и водой.
Разбор содеянного Белым – дело десятилетий и столетий. Его объем подавляет сознание. Не надо в этой статейке даже пытаться говорить о его творческих свершениях!.. Но, так как я никогда не отделяю литературы от жизни, литературы от личности автора, я расскажу так сдержанно, как могу, про вторжение Белого в мою жизнь. Я расскажу о моей личной потере…
В шестом классе среднеучебного заведения я впервые натолкнулся на Леонида Андреева. Этот писатель тогда свел меня с ума. Всё, что я мог достать здесь Андреева и об Андрееве, я перечел, как в лихорадке. Пожалуй, меня захватил не сам Андреев, а какой-то иной мир, начавший мне приоткрываться через Андреева.
Однажды я набрел на небольшую книжку: «Воспоминания о Леониде Андрееве». Там об Андрееве вспоминали Телешов, Бунин, Блок, Андрей Белый и др. Имена двух последних были мне тогда почти незнакомы. Правда, в критической литературе об Андрееве, которую я проглотил, мелькали их имена: Блок сказал то-то, Андрей Белый – то-то, и для меня уже тогда эти имена звучали необычно и обещающе, точно я предчувствовал, что именно в них или через них мне откроется новый мир; но только после прочтения небольшой статьи Белого об Андрееве этот мир стал мне по-настоящему приоткрываться. Помнится: Белый там писал, что Андрееву, несмотря на его бытовизм, был важен не быт, а Бытие. «Андреев с нами», – говорил Белый, а я думал: «с кем это с нами?» Скоро я узнал, что это – «мы» -символисты!
Я стал вникать в этот мир. В этом мире люди «летают на звуках», в этом мире я почему-то всегда видел огромного человека непременно с изумленными очами и лбом величиною с купол. Это был Андрей Белый, хотя в то время я еще не знал, как он выглядит…
Но этого для меня недостаточно. Белый еще не живет для меня полною жизнью. Узнать, как он выглядит, становится моим страстным желанием. Мне не с кем посоветоваться – знакомых у меня в ту пору мало, и они ничего не знают о Белом. Но я упорствую, постепенно – кажется, от Шкловского – узнаю, что Андрей Белый – «в миру Борис Николаевич Бугаев». По Эренбургу или по Гиппиус узнаю, наконец, как это Бугаев выглядит. Оказывается, у него именно такие глаза, как я думал, изумленные, «широко отверстые», и огромный лоб, и еще – дыбом стоящие волосы на полулысой голове. Оказывается, он не передвигается, а носится, и, когда он присутствует в комнате, от него исходит ветер – из каких миров?
Жадность моя ко всему, что связано с Белым, разжигается. Мне уже не хватает словесных описаний. Мне нужно знать, как скомпонованы эти отдельные черты на Беловском лице. Мне хочется иметь его фотографию. Скоро и это желание удовлетворено. Мне попадается альбом фотографий современных русских писателей. Листаю его лихорадочно, – неужели нет? – А. Толстой, Ф. Сологуб. Блок. Белый. так вот он какой! У него покатые, видно, худые до последней степени, плечи, на них обвисает мятый пиджак (портрет уже поздний, советский!), из воротника высунуты тонкая жилистая шея, а на лице, до сумасшествия внимательном к чему-то невидимому, горят большие светлые глаза, о которых он сам где-то писал: «ужасны глаза мои!..» Облик человека, который дышит не простым воздухом, а кислородом, облик сгорающего человека!
Белый становится всё осязаемей. Он становится – свой, родной. Но я ношу эту свою привязанность к нему одиноко, мне не с кем ею поделиться, а она тяжела. Некоторые из моих «читающих» знакомых или ничего не знают о Белом, или пожимают плечами: – да, но странный, странный это писатель.
Тогда я замыкаюсь в себе и больше никого не ищу. Пусть я буду один со своими странными привязанностями… Но жизнь меня формирует, – хочу я этого или нет, я становлюсь всё менее мечтательным и лишь с одной мечтой ни за что не хочу расставаться. Это – мечта когда-нибудь увидеть Белого, только взглянуть на него.
До самого последнего времени я не терял этой надежды. Совсем недавно господин, приехавший из Германии, рассказывал мне про свои встречи с Белым на курорте, еще когда Белый проживал в Германии. В седом серебряном пуху вся лысая голова Белого, но глаза те же, неизменные, изумленные. Чинные немцы косились на него, когда он в халатике выходил на пляж. По вечерам он учился танцевать фокстрот и танцевал долго, бешено, подпрыгивая, взлетая. Чинные немцы звали его: профессор, а про себя, конечно, думали: сумасшедший! Радость расцветала во мне, когда я слушал этого господина: а ведь Белый еще живуч!..
И не смутила меня заметка, проскользнувшая в одной из местных газет, сообщавшая, что Белый сейчас работает над своим «архивом Белого» и намеревается выпускать свои «посмертные сочинения». Я увижу Белого, – думал я.
Только последние две недели, идя по улице, перебирая по отроческой привычке стихотворные строчки свои и чужие, я припомнил внезапно одно его стихотворение его «мертвого» периода, когда он засушивал себя книгами неокантианцев, когда он писал: «черствая чувственность – роковой наш удел».
Стихотворение всё не вспомнилось, лишь немногие строчки, особенно:
Но равнодушно и мертво
Остановившееся сердце.
Почему именно эти две строки, – я не мог понять, да и не анализировал. И вообще это стихотворение я не так уж сильно любил, – однако всплыло оно, а не другие, любимые, вроде:
Мать-Россия, тебе мои песни,
О, немая, суровая мать!
Там, где глуше мне дай и безвестней,
Непутевую жизнь отрыдать.
Поезд плачется…
И только теперь я знаю причину. Это Андрей Белый – я верю в это – сам послал мне весть, что «равнодушно и мертво остановившееся сердце», то самое сердце Бориса Николаевича Бугаева, страстно проколотившееся пятьдесят четыре года.
Но почему вы так поторопились, Борис Николаевич? Может быть, лет через десять я – уже как русский человек – буду
иметь право поехать в Москву. Могу же я надеяться, что получу это право. До сих пор я верил и надеялся, хотя порой мне бывало страшно, и еще сейчас я верю и надеюсь, но никогда мне не было так больно и страшно, как сейчас…
…Равнодушно и мертво
Остановившееся сердце!
О творчестве (Отрывок из доклада)
Коммерсант, фабрикант, т.е. то, что мы обозначаем английским словом «продьюсер», обязан заботиться, чтобы предметы, им производимые, удовлетворяли потребителя. Он – поэтому -будет плохой продьюсер, если [1] он не знает их потребностей и вкусов в тот или иной период времени. Его продукты в таком случае не станут приобретать.