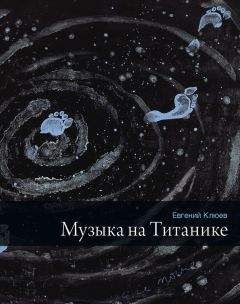«Тут нету ничего такого…»
Тут нету ничего такого —
такого… чтоб остановиться,
плениться ролью очевидца
и замереть на месте от
красот каких-нибудь, высот
каких-нибудь…
бывай, синица,
тут нету ничего такого —
скорее уж, наоборот:
и свет как свет, и свод как свод,
и род как род, и сброд как сброд,
и ожерелья, и оковы,
и нету ничего такого,
хоть днём и ночью хоровод
кружится, плачет взад-вперёд
бессмысленно и бестолково —
и крепко заведён завод,
и нету ничего такого,
и повторится слово в слово
за годом год…
бывай, синица,
зарница, бражница, блудница,
и пусть тебе не снится тот —
тот я как я, тот книжный крот, —
кто сам не спит, а только снится.
«Слушай сейчас, мне потом уже так не сказать…»
Слушай сейчас, мне потом уже так не сказать:
благоприятно не всякое время, не всякое место.
Честный товар понимает, что честный эрзац
тоже проникнет однажды в святое семейство —
ибо в конце-то концов, ах, в конце-то концов
всё завершится каким-нибудь смехом паяца!
Будущность шлет нам пластмассовых – роту – бойцов,
всякое быть уступает дорогу казаться.
Слушай сейчас, мне потом уже так не сказать —
тут, понимаешь ли, вышла такая минута:
кисть пересохла, сломалось перо, затупился резец…
и навестившая нас престарелая смута
ходит по дому, суётся в шкафы и листает архив,
ищет чего-то, чего уже нет и в помине:
запах духов, заготовки рисунков, намётки стихов,
список соратников, прерванный на половине…
Слушай сейчас, мне потом уже так не сказать,
не объяснить, почему оно не исчезает —
что непременно должно навсегда исчезать,
если поблизости нету хороших хозяев.
Видимо, дорог кому-нибудь весь этот хлам,
весь этот ужас, застывший пластмассовой лавой.
Видимо, жизнь получается крепче, чем нам
кажется… – и неразборчивей, неприхотливей.
«Из крайности в крайность…»
Из крайности в крайность (минуя чистилище —
училище тех, кто поймёт и раскается,
и старый подол не совсем замочил ещё,
и скоро отмоется, мокрая курица) —
бросаться… живя с тем, что есть и останется,
и в позднюю мудрость не красить дурашливость,
и, не разбирая, где дом – где гостиница,
стараться себе ничего не выпрашивать,
и не прихорашивать старенькой грешности,
и не привораживать глупенькой святости,
но – в общем-то, честно – свой маленький крест нести
и – в общем-то, честно – свой маленький сад блюсти.
А хочешь блеснуть золотой серединою —
так это не здесь (здесь то жарко, то холодно!):
любовь позади и любовь впереди неё…
не грязь – значит, золото, всё-то здесь золото,
всё жизнь – от пустого до полного невода,
из рога отсутствия – в рог изобилия.
И здесь никогда не тревожат без повода
ни Бога, ни чёрта.
Ни даже Вергилия.
«Я не то чтоб не уважаю общие мерки…»
Я не то чтоб не уважаю общие мерки,
но глухому совсем не служу – ни одну – обедню,
у меня есть сад размером с почтовую марку,
у меня есть дом величиной с голубятню.
Я б о них рассказал, да короткие были б рассказы,
а с короткими мне отсюда как-то неловко…
Но зато мне завидуют все окрестные бабочки и стрекозы,
и коровка одна – между прочим, божья коровка:
ибо негде им всем приклонить головы их буйной
(правда, я всегда говорю: прилетайте и приклоняйте,
и они прилетают, конечно, – полной обоймой…
или чем они все там летают, я без понятья).
Я считаю, что мне повезло – при моей-то лени,
при моей-то привычке не ждать ничего особо
я считаю, что мне повезло на распределеньи
и садов, и домов, и за всё – большое спасибо!
За труды, за плоды, за находку и за помарку,
за движенье от первого слога к последнему слогу…
Я наклею на голубятню почтовую марку
и пошлю по адресу: Синее Небо. Господу Богу.
1
Отец прибивает скворешню,
на самое небо скворешню —
отец совершенно безгрешный,
раз так высоко поднялся:
и там у него небеса,
там стук молоточка, веселье,
и ждут все скворцы новоселья,
наведываясь на леса.
Он так и стоит, как стоял,
друг всем атмосферным слоям,
в глазах у меня: повторяя —
теперь уже прямо из рая, —
что в небо нельзя сыновьям,
в особенности – соловьям,
тем паче – погода сырая…
А Бог наблюдает за стройкой,
за лестничкой нашей нестойкой
с опасно изогнутой рейкой
и тихо ворчит, как всегда,
крылом выпрямляя изгибчик:
«Василий Михалыч, голубчик,
давай молоточек сюда!»
2
Опять все скворцы прилетели ко мне,
опять я к прилёту скворцов не готов,
опять я не знаю, что им говорить.
Сказать, что отец мой теперь на Луне,
где, в общем, достаточно лунных скворцов
и, стало быть, много чего мастерить?
Но как-то, похоже, скворцы не хотят
совсем ничего от меня и не ждут —
они прилетели сюда за другим.
Они посидят и опять улетят —
они и пробудут здесь пару минут,
они и слетелись на память, на дым.
Они навещают любезный приют —
нахохлившиеся, сидят в тишине
от крыши заржавленной невдалеке.
Они никогда ничего не поют,
а если поют, то другому, не мне:
невидимому… с молоточком в руке.
Спите, лягушка, мышка, курочка ряба,
внучка и жучка, спите, дедка и бабка —
все эти пушки просто забава, спи, моя рыбка,
просто большие деньги пущены в небо,
просто гуляет по свету горе не горе,
кара не кара – с пышным букетом, с жаркою плетью…
а ведь купить хотели то и другое:
пусть и не хлеба – пусть и хотя бы бальное платье!
Бальное платье, бальные туфли, плащ звездочёта:
сколько нарядов стало бы сразу, сколько игрушек…
всяких зверушек, плюшевых мишек – просто до чёрта,
а накупили грома и молний, танков и пушек.
Так и бывает, милые дети, так и ведётся:
дядям и тётям хочется смерти, хочется крови —
вот и воюют, вот и стреляют дяди и тёти,
спи, моя рыбка, это всего лишь лишние кроны.
Вон полетела в чёрное небо новая кукла:
ручка отдельно, ножка отдельно, пара кудряшек…
спи, моя рыбка, кукле не больно, кукла привыкла,
спи, моя рыбка, мы обойдёмся и без игрушек —
мы ведь одеты, мы ведь обуты, не голодаем…
жалко, Всевышний нй дал нам сердца, нй дал умишка:
видишь, как пляшут, весело пляшут в небе задаром
новая кукла, новая книжка, плюшевый мишка!
«Вот так проходят наши дни: иди и не смотри…»
Вот так проходят наши дни: иди и не смотри,
закрой глаза – и так иди, иди и не смотри.
А Он… Он говорил не так, да видимо, Его завет
уже отстал, отстал в пути на пару тысяч лет.
На пару, значит, тысяч лет состарился пилат,
и износился циферблат и механизм внутри,
и облупился прежний лак, и истрепался хилый флаг,
и свежей кровью век набряк, иди и не смотри.
И даже самых грузных лат давно растаял след,
и даже самых страшных дат не помнят звонари,
и, если миром правит рок – теперь это тяжёлый рок,
как записной остряк изрёк… иди и не смотри.
Уже устал разить булат и греть устал бушлат,
уже никто не виноват, ни слуги, ни цари,
ни в том, что всё коварней враг, ни в том, что всё густеет мрак,
что на печи сидит дурак, – иди и не смотри.
Не тот сармат, не тот формат… и так богат магнат,
что он теперь начальник над капризами зари,
что он определяет впрок режим светил, и цвет, и срок
и полагает, что он бог, – иди и не смотри.
Есть у тебя твой малый сад, как люди говорят, —
лелей и не смотри назад, всё врут календари,
и не смотри вперёд, сурок: там на тебя взведён курок,
иди – беднейшей из дорог – и не смотри, смотри.
У короля было только двенадцать приборов,
лишь потому злую фею и не пригласили —
взяв наплевав и на весь её взбалмошный норов,
и на тот факт, что злодейка пока ещё в силе,
взяв наплевав на любых иностранных спецкоров
и фотокоров со вспышкой (тем паче – без вспышки) —
пусть, дескать, так и запишут в подручные книжки:
у короля было только двенадцать приборов!
А в королевстве и так-то всё было ни к чёрту:
разные мистики разную чушь предрекали —
истово на голубином гадаючи кале
и потроша кружевную лебяжью печёнку…
И выходило, что дальше всё будет ужасно:
жизнь остановится и сокрушится рассудок.
И выходило, что тут уже не удержаться
и что пора бы нам всем потихоньку отсюда.
И королева стонала: погибнем, погибнем, —
требуя нашатыря, валерьяны, шалфею,
страстно молилась окрестным богам и богиням
и умоляла в слезах пригласить злую фею!..
Но возмущался король: «Ни за что, дорогая,
праздник так праздник – и нечего, стало быть, всяким!..» —
по королевским покоям спокойно шагая
и никаким не внимая ни слухам, ни знакам.
В мире важнее всего этикетная ветошь —
что там нашествие готов каких-нибудь, буров!
У короля было только двенадцать приборов —
это судьба… и уже ничего не попишешь.
«Мелко, мелко волнорезу…»