– Мне говорила о вашем положении Вера Николаевна, и я завтра же поеду к Савве Прохоровичу Щукину и буду убедительно просить его, чтобы он поместил вас в свой приют.
Старик быстро встал и поклонился мне низко-низко. Тут только я заметил, что глаз, на котором было у него белое пятно, совсем не закрывается. С этим незакрытым глазом он заговорил сквозь слезы:
– Ах, милостивый господин, если бы это возможно было вам сделать!.. Если бы господь милосердный помог этому!.. Может, Савва Прохорович и услышит вашу просьбу и мои мольбы, может, и даст мне по доброте своей угол да кусок хлеба при конце дней моих… Еще поднимаются, сударь, мои старые руки и бродят пока ноги, а ведь страшно, сударь, – и старик при этих словах как бы действительно чего-то невидимого пугался, – страшно даже подумать, когда откажутся они и придется протянуть руку христа ради… Господи, господи милосердный, – обращаясь снова к этюду Христа, говорил старик, – прекрати лучше мои горькие дни!.. – И, закрыв лицо руками, старик затрясся всем своим старческим телом.
Он плакал… плакал тихо… тяжело.
На другой день утром я отправился к Савве Прохоровичу… Считаю не лишним рассказать тут же кое-что и о Савве Прохоровиче. Это был почетный гражданин, первой гильдии купец, по своему богатству и благотворительности известный не только нашему городу, но и всей России. В былое и очень даже недавнее время он строил церкви, лил колокола, жертвуя их в разные обители; но, съездивши за границу и случайно познакомившись с художниками и учеными, бросил отливать колокола, обрил бороду, по-немецки остригся, по-немецки оделся и как-то вдруг стал слыть меценатом и даже археологом. Ради этой археологии он покупал всякую рухлядь, начиная с глиняных горшков, гобеленовских совсем полинялых ковров и кончая гетманской булавой, которая досталась ему за весьма большие деньги. Одновременно с такой любовью к древностям он почему-то возымел неудержимую страсть к музыке и до того ею увлекся, что даже и сам стал учиться играть на виолончели. Окружив себя музыкантами, художниками и учеными, он все-таки, надо отдать ему полную справедливость, не переставал иногда благодетельствовать и бедному народу. Довольный всегда собой, веселый до неуместной шутливости и подчас резонер до фразерства, Савва Прохорович являл из себя тип самооболыценного богача, но богача, который не удовольствовался еще имеющимися у него миллионами, и потому ежедневно бросал на несколько часов вышеупомянутые бредни и всецело, даже с каким-то азартом, предавался увеличению своих капиталов. Трудно понять, ради чего он их с такой жадностью увеличивал. Он был один-одинешенек, жена у него давно умерла, а детей не было.
Собой Савва Прохорович был некрасив, но далеко и не дурен. Среднего роста, чуть-чуть что не толстый, с серыми маленькими глазами, с двойным подбородком, небольшим носом и такими же губами. Вообще он был человек, о котором говорят – метёт,[32] то есть мужчина солидный, приличный и больше ничего. Чтобы вполне, однако, закончить описание Саввы Прохоровича, я должен прибавить, что одевался он всегда франтом и не выпускал никогда изо рта благовонной гаванской сигары, предлагая гостям сигары похуже. Вот и все, что можно сказать о Савве Прохоровиче, если не касаться его нравственной стороны. В последнем случае мы ограничимся двумя словами. Он был, несомненно, человек доброй души и с хорошими стремлениями; но убийственное воспитание и окружающие люди, окуривавшие его вместо истины лестью и ложью, сделали из его восприимчивой натуры не то, чем бы она могла быть при других условиях.
Я приехал к нему утром. Меня пригласили в кабинет, до которого нужно было пройти целую анфиладу комнат, убранных роскошно, но с не большим вкусом. Прежде всего бросались в глаза красный штоф и золотая мебель. Повсюду были приспособлены разные полки и полочки, на которых в бесчисленном множестве, вместе с горшками и какими-то черепками, стояли этрусские, китайские, японские и другие вазы. Между ними помещались какие-то из дерева резные раскрашенные уродцы. Множество книг и древнего оружия украшали стены. К довершению же всего в одном из углов на высоком пьедестале стоял мраморный бюст самого Саввы Прохоровича. Я помню этот бюст, когда он как-то красовался на одной из столичных выставок. Вся публика особенно обращала внимание на лаконическую надпись под ним: «Бюст мужчины».
Вторая комната также была наполнена старыми вещами, но в ней я увидел и разные великолепные музыкальные инструменты; третья опять в том же характере, как первая и вторая, и т. д. вплоть до кабинета, где сидел, пощелкивая на счетах, Савва Прохорович. При моем приходе он как-то развязно, переваливаясь с ноги на ногу, мотая головой и закидывая ее кверху, устремился ко мне. Протянув мне обе руки, он любезно и улыбаясь заговорил часто и картавя:
– А! Господин художник! Милости просим! Очень рад! Что, батенька, прикажете? Ну, что хорошенького?… Садитесь, пожалуйста… Сигарочку…
Он достал из ящика и подал мне сигару, несмотря на то, что я чуть ли не в сотый раз отказывался от его сигар, так как никогда не имел и не имею привычки их курить.
– Ну, батенька, Егор Иванович (меня же никогда еще и никто не звал Егором Ивановичем), ну-с, рассказывайте, что новенького? Рассказывайте, голубчик… – И вдруг ни с того ни с сего, закатившись громким смехом, Савва Прохорович вскричал: – Ах вы, художники, художники! Люблю я вас!.. веселый вы, право, народ!.. – Но, приняв опять серьезный вид, он добавил: – Так-тось, батенька!.. – и, ударив по моему колену своей жирной рукой с большим перстнем на указательном пальце, сказал не то деловым, не то шуточным тоном: – Ну-с, в чем у нас с вами, Федор Егорович, будет дело?… говорите…
– У меня до вас, Савва Прохорович, большая просьба, – начал я; и не успел еще высказаться, как заметил, что Савва Прохорович точно потянулся, лениво зевнул и поморщился. – Вы человек известный всем и каждому своей благотворительностью… – при этих словах Савва Прохорович еще более поморщился… – Много сделали полезного для науки и искусства… Наконец, вы выстроили дом призрения для бедных рабов, оставленных без куска хлеба своими бывшими господами… Многих из сих несчастных вы собрали под один кров и составили из них как бы одну семью… Это дело великое… Довершите его и еще одним благодеянием… Приютите одного несчастного восьмидесятичетырехлетнего старика…
Я рассказал ему подробно все, что знал о Христофоре Барском. Савва Прохорович был, по-видимому, тронут положением несчастного старика и дал мне слово поместить его непременно в свой приют.
– Впрочем, – добавил он, – вот беда! Не знаю, батенька, есть ли теперь там свободные места. Если нет, то ему придется подождать недельку-другую… Но, во всяком случае, будьте уверены, что мы его поместим… Благодарю, – сказал Савва Прохорович с особенным чувством, – вы дали мне случай утереть слезы еще одному несчастному. Пришлите его ко мне завтра. Мы с ним потолкуем.
На все это я, уходя, ответил низким поклоном.
– Прощайте, прощайте, голубчик! – и Савва Прохорович пожал мне руку и, засмеявшись, добавил: – Ах вы, художники, художники! Веселый народ! Ну, бог с вами, батенька, прощайте!..
Мы расстались.
Все мною рассказанное, надо заметить, происходило в конце лета.
На другой день я сообщил старику Барскому о результате разговора с Саввой Прохоровичем. Нечего и говорить о радости Барского. Он начал креститься на этюд и, кажется, имел намерение поклониться мне в ноги.
Написав к Савве Прохоровичу записку, я просил Барского на обратном пути от Щукина зайти ко мне.
Почти к вечеру зашел ко мне Барский, веселый, даже, как мне показалось, бодрее обыкновенного. Он рассказал мне, что видел Савву Прохоровича самого и от самого получил визитную карточку, на которой было написано: принять немедленно в число призреваемых. Только смотритель приюта, когда Барский к нему явился, сказал, что теперь в приюте места нет и что надо понаведаться недели через две.
– Слава тебе Господи, царь небесный!.. – заключил Барский, набожно перекрестившись. – Теперь и жить-то, сударь, как-то веселее стало… даже словно дышать-то легче, право, легче… Пошли вам… – начал он снова меня благодарить.
Я попросил его сходить к Вере Николаевне и сообщить обо всем ей.
– Как же-с! Как же-с! – заторопился старик, – прямо от вас побегу к ней… Ах, сударь, какая добрейшая барыня эта Вера Николаевна… Вот уж истинно можно сказать, это не женщина, а сама добродетель. Как она обрадуется за меня!.. Прощайте, сударь! Пойду, уведомлю ее…
И, постукивая своей палкой, весело улыбаясь, вполне довольный и счастливый, он удалился.
Прошло далеко более месяца. Дни стали уменьшаться, ночи растянулись чуть не в бесконечность, и скучная осень с неприветливыми до тоски дождями, с холодными, как рыдание смерти, ветрами и разными болезнями, всегдашними ее спутниками, уже приближалась к концу. Барский заходил ко мне в это время Раза два, но в приют, за неимением места, помещен еще не был. Наведывался же туда, в ожидании благ и заманчивого покоя, аккуратно через каждые две недели.
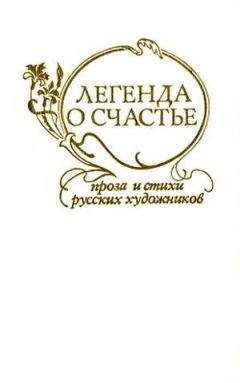



![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)
