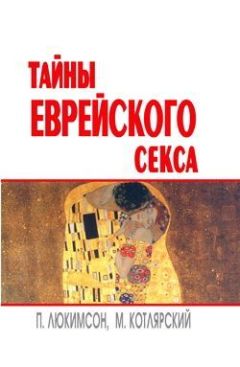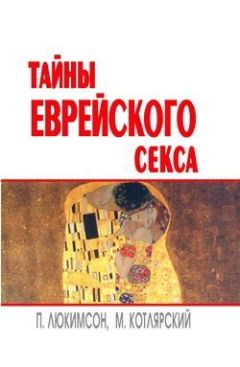головою вниз.
Я вскрикнул. И проснулся я.
Сползала на пол простыня,
И теплый воздух был, как мускус.
Бубнил комар, как пономарь,
И, улыбаясь зло и тускло,
В окно заглядывал фонарь.
Ты из моих, скорее, пагуб,
– проклятье, ненависть, суккуб, —
я слышу шепот этих губ,
я вижу построенья пагод,
причудливых, как будто ло́зы,
обнявшись вдруг, переплелись.
И страхи, что за мной плелись,
И жизнь, и молодость, и слёзы,
и пагуб пагод —
– всё смешалось,
и – вздернут тушкой на суку, —
какая жалость (или шалость) —
вверх головой
висит
суккуб…
…Странно, но слово „грусть“
похоже на слово «груз»
или „груздь“,
и, если тяжек твоей грусти
груз,
то ты,
как тот самый груздь,
который полез в кузов
безропотно и покорно.
Ты можешь, как полководец Кутузов,
сопротивляться упорно,
собирать срочно совет в Филях,
гнать полки,
Москву за собой сжигая.
…А любовь, что же,
она живая?
Смотри: плетется еле-еле
на костылях, —
инвалид-недоносок,
чье болтается тело,
как повисшая плеть
на гвозде.
Было.
Сплыло.
Дунуло.
Улетело.
Вилами было писано
по воде…
По ночному беззвездному небу летят
Мои годы-невзгоды – всего шестьдесят.
Над безлюдьем моим, над цветами ролей
Безнадежно, как старость, плывет юбилей,
Как поникший, истрепанный морем фрегат —
Без регалий, рыданий, наград – ренегат.
Никого. Только ухают совы в тиши,
Да и кто, кроме сов, в этой горькой глуши,
– Где грусти о прошедшем да водку глуши, —
Да и кто, кроме сов, в этой звездной глуши,
Появляется ночью? Нет, всё-таки днем
Чьи-то тени слоняются (клоны теней?).
И дышу я – мне кажется? – сегодняшним днем,
Состоящим из множества прожитых дней.
Я спросил сегодня у менялы…
С. Есенин, „Персидские мотивы“
В оный день, когда судьба меняла
Вектор свой, запутавшись в грехе,
Мне навстречу кинулся меняла,
Умерший в есенинском стихе.
Доллары в глазах его горели,
Где-то свора лаяла собак,
И качались молодые ели,
Словно пьяницы, входящие в кабак.
Боже, как меня буравил люто
Взгляд менялы и его слова:
„Что любовь? Презренная валюта!
Долларом, поверь, любовь жива!“
И меняла мне шептал украдкой,
Как надежней доллары вложить,
Шелестел финансовой тетрадкой,
Объяснял, как мне с валютой жить:
Курсы акций, непреложность унций,
Всю палитру яркую банкнот —
Важный, словно папский нунций,
Хитрый-хитрый, как чеширский кот, —
Всё меня убалтывал меняла,
Улыбаясь в пышные усы,
Словно знал: мне память изменяла.
Он жужжал подобием осы,
Вился над измученным сознаньем,
В мозг врезался звоном комарья…
…Кто меня снабдил высоким знаньем?
И меняла отвечает: „Я!“
…Ну, вот – петрушка, пастернак,
Душисты листья базилика.
…А кто-то скажет: „Пастернак,
Россия, Лета, базилика», —
Тот царский дом, у чьих колонн
С колен – побитые камнями —
Нам не подняться. Кто же он,
Забытый родиной и нами?
Кто это бродит меж людьми,
Насквозь, как рана ножевая?
Известно: призраков любви
Давно уж нет. Но тень живая
Колеблется, как тот тростник,
Что мыслящим зовется. Впрочем,
Кого увидел вдруг и сник
Печальный призрак дня и ночи?
И ветер, как больной, ревет,
Нелепым обернувшись знаком.
Петрушка, выход твой, вперед,
Куражься вместе с Пастернаком,
Срывай фригийский свой колпак
И пастернаковские строки
Тверди, шутя, запросто так;
Не потому, что вышли сроки,
А потому, что жизнь слепа,
Нелепа, гибельна, сурова,
Как разъяренная толпа,
Лишившись разума и крова;
Жизнь коротка, как край плаща,
Как пулей раненная птица.
И тает призрак, трепеща,
Чтоб никогда не возвратиться.
…А та, что была мне когда-то женой,
Отводит свой взгляд, равнодушный и злой,
И речь прекращает.
А в небе, как пыль, разнесло облака,
Облатку бездумно сжимает рука,
И мнет, и бросает.
И скомканный лист за облаткой плывет,
И падает вниз, как подстреленный влет
Бумажный комочек.
Там строчки, которые я посвятил,
Той женщине прежней, что знал и любил —
Лишь несколько строчек.
Я спросил у пророка про цену
пророчества.
„Одиночество, – был мне ответ, —
одиночество…“
П. Люкимсон
Человек остается один:
от него
отворачиваются друзья,
возлюбленная отворачивается,
и даже земля отворачивается,
поскольку ей
останавливаться нельзя.
Человек остается один.
Вкруг него
какая-то жизнь не та
проистекает,
что-то такое странное происходит,
кто-то приходит,
а кто-то внезапно уходит,
поскольку тут царит
горькая
суета.
Человек остается один.
На лицо
наворачивается слеза,