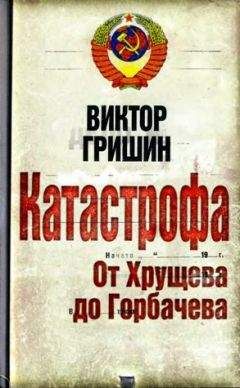Небезынтересно проследить формальные влияния, из которых складывается своеобразное поэтическое мастерство Несмелова. Прежде всего, поэма Несмелова – «лирический фельетон». Эту форму рьяно пропагандировали футуристы в период создания Лефа как лучшее средство оформления гражданских тем. Словом, с внешней стороны она соткана из советских влияний. Отсюда – масса прозаизмов, отсюда – установка на разговорную речь, и только – местами песенный лад да свобода в обращении с синтаксисом заставляют вспомнить о Цветаевой.
Но содержание поэмы – наше эмигрантское. В ее основу положена газетная заметка. Несколько кадет, раздобыв крошечный парусно-моторный бот «Рязань», решили плыть на нем в Америку. Капитаном судна был избран случайно встреченный в порту боцман. Судно благополучно прибыло к берегам Сев. Америки, установив рекорд наименьшего тоннажа для трансокеанского рейса… Эту незатейливую тему Несмелову удалось почувствовать остро лирически. «Страшные годы России», Россию закрутила метель, и мальчиков-кадет эта метель застает на школьной скамье. Не доучены алгебра и геометрия, – «можно ль учиться, когда надтреснут старый уклад и метель в дыру», и – вот: «Русский от голода и от страха прет бесшабашно на рожон». Но автор – в лирических отступлениях поэмы – не предается печали о надтреснутом старом укладе, о брошенной школе. Перед кадетиками – иная, более совершенная школа – жизнь. Говорят, что в некоторых местах Сибири новорожденного ребенка вываливают в снегу: выживет – будет здоров, как бык, не выживет – стало быть, не судьба. В этом-то «выживет – не выживет», в преклонении перед жизненной силой человека обретает Несмелов свой весьма несложный, но подлинный пафос. Без крещения метелью, без вываливанья в снегу для Несмелова невозможен подлинный человек: или смерть – не выживет, или жизнь – выживет, но не нечто среднее – вялое прозябание… Этот пафос мужества иногда захлестывает, и кажется, что сам надышался свежего морозного ветра, нахлебался соленой холодной воды. Некоторые строфы звучат особенно страстно и выразительно и сформируют не одно юношеское сердце. Например:
Хмуро дичая от понужая,
Бурым становишься, как медведь.
Здесь обрастешь бородой, мужая,
Или истаешь, чтоб умереть.
В плен ли достанешься, на коленках
Не поползешь: не такая стать.
Сами умели поставить к стенке,
Значит, сумеют и сами стать.
Бодростью, жизненной силой веет и от песенки кадет, постепенно продвигающихся вперед «через океан», написанной веселым хореем, к которому вообще пристрастен Несмелов.
Несмотря на основной бодрый тон, сквозят там и сям в поэме скорбные нотки. И не случайно в восторженное заключение поэмы вкраплены следующие строчки:
Мы – лишь тема, милая поэту,
Мы – лишь след на тающем снегу.
Это скорбь об уходящей в вечность эпохе, о днях величайшего падения. В своей книжке «Кровавый Отблеск» Несмелов некогда восклицал: «всё меньше нас – отважных и беспутных, рожденных в восемнадцатом году». Да, годы идут, и восемнадцатый год – героическая эпоха – становится далеким прошлым. Но прав поэт, восклицающий, что:
Как торнадо, захлестнет потомков
Дерзкий ветер наших эпопей.
Уже веет ветром новой эпохи, не менее экстатической, не менее героичной. Но думается, что теперь – после ужасного опыта «страшных лет России» – слово «беспутный» потеряло свое очарование. Прекрасно, что люди умеют умирать, но они еще должны знать, за что они умирают.
Поэма Арсения Несмелова расцветает новым значением и перекликается с будущим.
Предисловие <к сборнику «Остров»>
– Прежде всего, почему «Остров»?..
Возникло это название у участников сборника как-то сообща, единовременно, непроизвольно… Но сразу показалось – не случайно. И сразу же стало ясно, что так и следует эту книгу назвать.
Большой овальный стол, накрытый белой скатертью, с тщательно замаскированной настольной лампой, в низкой темной комнате чем-то напоминал остров. Таким образом, первым толчком к рождению этого названия могло послужить чисто внешнее впечатление.
Но эти содержательность названия для нас не исчерпывается. Слово «остров» множится для нас смыслами.
Остров – нечто отделенное, изолированное от остального мира, замкнутое в себе. Действительно, наши сборы еженедельно, по пятницам, для занятий литературой (преимущественно поэзией) были для нас своеобразным уходом, изоляцией от мира, в котором грохотали бомбы, и рвались снаряды, и выли сирены, и остро пахло кровью. Два года, каждую пятницу, сходились мы у этого овального стола, на своем искусственном острове, а вокруг бушевала война, свирепствовали японские оккупанты, царил жесточайший материальный и моральный гнет. Работать литературно, высказываться художественно было негде из-за цензуры, безбумажья и прочих скорпионов войны.
Уход от действительности, замыкание от мира на своем «острове» – мы менее всего склонны это идеализировать. Но в тот период, в той обстановке – это была железная необходимость. Наш «остров» представлялся единственным оазисом среди пустыни. Каждый чувствовал – писать надо. Любовь к литературе и писательское самоуважение требовали преодолевать гнет, сбрасывать апатию и отчаяние хотя бы искусственно, хотя бы по-детски – игрой, соревнованием, и вот откуда искусственная, как бы несерьезная, «коллективная» форма этой книги: сборник стихотворений на заданные темы…
Преобладающее число участников этой книги – члены литературного объединения «Чураевка», плодотворно работавшего в Харбине до превращения Маньчжурии в «Мань-чжуго». Название «Чураевка» происходит от заглавия серии романов сибирского писателя Г. Гребенщикова «Чураевы ». Но это название было чистейшей случайностью и осталось за объединением лишь по инерции. Ничего общего с идеями Гребенщикова объединение не имело, если не считать его самого раннего, «детского», вернее «утробного» периода, когда кружок не оказывал никакого влияния на литературную жизнь дальневосточной эмиграции. На самом деле «Чураевка» представляла собой литературную школу для молодых поэтов, где подхватывалось и изучалось всё новое в советской и эмигрантской (преимущественно парижской) литературе, причем преобладало внимание к литературной технике, к «лабораторной» стороне литературного творчества, к чисто внешнему уменью. Из литературных влияний (при всей их пестроте) преобладало влияние символизма и акмеизма.
Судьба разметала поэтов, представлявших основное ядро «Чураевки», но она же сблизила их на новой платформе снова более чем через десять лет в Шанхае, куда за это время постепенно переместилась культурная жизнь всей эмиграции из задушенного японцами Харбина. Потребность объединения назрела не сразу, а постепенно. К концу 1943 года она ощутилась как необходимость. Так возникла « Пятница » (как участники сборника постепенно привыкли себя именовать).
За это время литературная жизнь дальневосточной эмиграции совершенно замерла. Печататься было негде, да и – правду сказать – не для кого. «Пятница» началась в условиях, менее всего благоприятствовавших литературным занятиям. Отпечаток этот и лежит на этом сборнике. Надо было создавать хотя бы искусственные стимулы и условия для творчества, чтоб не задохнуться в мертвящей атмосфере. И писание на заданные темы, вынимаемые из «урны» (просто-напросто стакана), в порядке «дисциплины», стало одним из условий. Все-таки стимул!..
Постепенно игра увлекла. Увлекла потому, что стала рассматриваться не как игра, а как дело долга. Впрочем, тут действовало не только увлечение или упрямое желание – во что бы то ни стало – торжествовать над условиями. Тут действовал, пожалуй, и инстинкт самосохранения. Гибель моральная, гибель физическая – это не для красного словца сказано. Угроза такой гибели была более чем реальна. Эти годы в Шанхае и других городах Дальнего Востока многих русских людей «с душой и талантом» (Пушкин) подкосили, обескрылили, обескровили, надорвали, опять-таки, или физически, или морально…
« Пятница » тоже вышла из испытаний этих страшных лет с глубокой кровоточащей раной. Мы имеем в виду смерть (11 декабря 1944 года) поэт и публициста Николая Петерец – фактического организатора и инициатора всех наших начинаний, непримиримого врага всякой халтуры, неустанного борца за качество, умевшего вносить целесообразность даже в тот тяжкий «искус молчания», который был навязан нам условиями.
Каждый из нас – на жизнь – вынес горячую благодарность к этому человеку, не терявшемуся ни при каких обстоятельствах и всегда умевшему быть человеком в самом хорошем, в самом благородном значении этого слова.
Но работать с нами он продолжает !
Вот линии работы, намеченные Николаем Петерец в области дальневосточной литературы: