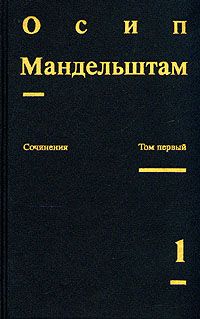«Где связанный и пригвожденный стон?..»
Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей – скалы подспорье и пособье?
А коршун где – и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?
Тому не быть – трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы –
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.
Он эхо и привет, он веха, – нет, лемех…
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех –
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.
19 января – 4 февраля 1937
«Как дерево и медь Фаворского полет…»
Как дерево и медь Фаворского полет –
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.
И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.
Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами…
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.
11 февраля 1937
«Обороняет сон мою донскую сонь…»
Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры –
Их быстроходная, взволнованная бронь,
И любопытные ковры людского говора…
И в бой меня ведут понятные слова –
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова…
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.
Необоримые кремлевские слова –
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.
И слушает земля – другие страны – бой,
Из хорового падающий короба:
– Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, –
И хор поет с часами рука об руку.
‹18 января› – 11 февраля 1937
«Вооруженный зреньем узких ос…»
Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе…
И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.
О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную…
8 февраля 1937
«Еще он помнит башмаков износ…»
Еще он помнит башмаков износ –
Моих подметок стертое величье,
А я – его: как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранича.
Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон – наклон – подкова – конь – балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы…
И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, –
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.
7–11 февраля 1937
«Пою, когда гортань сыра, душа – суха…»
Пою, когда гортань сыра, душа – суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется, без языка – тиха:
Уже не я пою – поет мое дыханье,
И в горных ножнах слух, и голова глуха…
Песнь бескорыстная – сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов – смола.
Песнь одноглазая, растущая из мха, –
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха…
8 февраля 1937
«Были очи острее точимой косы…»
Были очи острее точимой косы –
По зегзице в зенице и по капле росы, –
И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.
9 февраля 1937
«Я в львиный ров и крепость погружен…»
Я в львиный ров и крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой –
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.
Как близко, близко твой подходит зов –
До заповедей рода, и в первины –
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины…
Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего – праматери – мизинца.
Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.
12 февраля 1937
«Если б меня наши враги взяли…»
Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит,
Если б меня смели держать зверем, –
Пищу мою на пол кидать стали б –
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом –
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И – в легион братских очей сжатый
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы –
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.
‹Первые числа› февраля – начало марта 1937
«На доске малиновой, червонной…»
На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной –
Втридорога снегом напоенный
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженый,
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая, кривая
Карличья в ушастых шапках стая, –
И, меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая…
6 марта 1937
«Я молю, как жалости и милости…»
Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,
Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых…
В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет – денежный, обиженный…
Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти в безбрежности! –
Свищет песенка – насмешница, небрежница,
Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая…
А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли –
В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей…
Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, –
Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.
3 марта 1937
«Я видел озеро, стоявшее отвесно»
Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.
Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги – недруги других невскрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг, –
И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.
4 марта 1937
Стихи о неизвестном солдате
1
Этот воздух пусть будет свидетелем –
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна – вещество…
До чего эти звезды изветливы –
Всё им нужно глядеть – для чего? –
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна – вещество…
Помнит дождь – неприветливый сеятель –
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.
Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать, –
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать,
И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.
2
Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры –
Золотые убийства жиры…
3
Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нолей:
И за полем полей – поле новое
Треугольным летит журавлем –
Весть летит светопыльной обновою,
И от битвы давнишней светло.
Весть летит светопыльной обновою:
– Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва народов, я новое,
От меня будет свету светло…
4
Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей –
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте:
Доброй ночи! Всего им хорошего
От лица земляных крепостей!
Неподкупное небо окопное –
Небо крупных оптовых смертей –
За тобой, от тебя – целокупное,
Я губами несусь в темноте, –
За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных – пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.
5
Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека –
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка –
Эй, товарищество – шар земной!
6
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится – сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец…
7
Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.
Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.
И, сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?
Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом?
Чуешь, мачеха звездного табора –
Ночь, что будет сейчас и потом?
8
Напрягаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом…
– Я рожден в девяносто втором…
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья – с гурьбой и гуртом –
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января – в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.
1–15 марта 1937
«Я скажу это начерно, шопотом…»