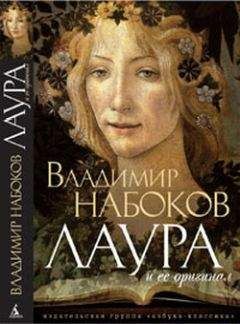ЛАСТОЧКА
Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь налету…
До завтра, навеки, до гроба —
однажды, на старом мосту…
(Из романа «Дар»)
* * *
О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жить люблю,
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.
Еще судьба меня согреет,
Романом гения упьюсь,
Мицкевич пусть еще созреет,
Кой-чем я сам еще займусь.
(Из романа «Дар»)
«…монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загипнотизировало меня своей системой наглядного отмечания и подсчитывания полуударений… и с той поры, в продолжение почти года — скверного, грешного года — я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема:
* * *
Задумчиво и безнадежно
распространяет аромат
и неосуществимо нежно
уж полуувядает сад, —»
(Из романа «Дар»)
* * *
В полдень послышался клюнувший ключ и характерно
трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна;
шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес
мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами.
Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным
гекзаметром автора «Москвы».
(Из романа «Дар»)
* * *
Люби лишь то, что редкостно и мнимо,
что крадется окраинами сна,
что злит глупцов, что смердами казнимо;
как родине, будь вымыслу верна.
Наш час настал. Собаки и калеки
одни не спят. Ночь летняя легка.
Автомобиль проехавший навеки
последнего увез ростовщика.
Близ фонаря, с оттенком маскарада,
лист жилками зелеными сквозит.
У тех ворот — кривая тень Багдада,
а та звезда над Пулковом висит.
Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина,
полумерцанье в имени твоем,
и странно мне по сумраку Берлина
с полувиденьем странствовать вдвоем.
Но вот скамья под липой освещенной…
Ты оживаешь в судорогах слез:
я вижу взор, сей жизнью изумленный,
и бледное сияние волос.
Есть у меня сравненье на примете
для губ твоих, когда целуешь ты:
нагорный снег, мерцающий в Тибете,
горячий ключ и в инее цветы.
Ночные наши бедные владенья,
забор, фонарь, асфальтовую гладь
поставим на туза воображенья,
чтоб целый мир у ночи отыграть.
Не облака, а горные отроги;
костер в лесу, не лампа у окна.
О, поклянись, что до конца дороги
ты будешь только вымыслу верна…
Под липовым цветением мигает
фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень
прохожего по тумбе пробегает,
как соболь пробегает через пень.
За пустырем, как персик, небо тает:
вода в огнях, Венеция сквозит, —
а улица кончается в Китае,
а та звезда над Волгою висит.
О, поклянись, что веришь в небылицу,
что будешь только вымыслу верна,
что не запрешь души своей в темницу,
не скажешь, руку протянув: стена.
(Из романа «Дар»)
* * *
Виноград созревал, изваянья в аллеях синели.
Небеса опирались на снежные плечи отчизны..
(Из романа «Дар»)
* * *
Из темноты, для глаз всегда нежданно,
она, как тень, внезапно появлялась,
от родственной стихии отделясь.
Сначала освещались только ноги,
так ставимые тесно, что казалось:
она идет по тонкому канату.
Она была в коротком летнем платье
ночного цвета — цвета фонарей,
темней стволов, лоснящейся панели,
бледнее рук ее, темней лица.
(Из романа «Дар»)
* * *
. . . . . . . . . . . ума большого
не надобно, чтобы заметить связь
между ученьем материализма
о прирожденной склонности к добру,
о равенстве способностей людских,
способностей, которые обычно
зовутся умственными, о влиянье
на человека обстоятельств внешних,
о всемогущем опыте, о власти
привычки, воспитанья, о высоком
значении промышленности всей,
о праве нравственном на наслажденье —
и коммунизмом.
«Перевожу стихами, чтобы не было так скучно. Карл Маркс: „Святое семейство“». (Из романа «Дар»)
* * *
Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?
Что подвиг твой не зря свершался — труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?
Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,
с улыбкой женскою и детскою заботой,
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.
(Из романа «Дар»)
* * *
Прощай же, книга! Для видений
отсрочки смертной тоже нет.
С колен поднимется Евгений,
но удаляется поэт.
И все же слух не может сразу
расстаться с музыкой, рассказу
дать замереть… судьба сама
еще звенит, и для ума
внимательного нет границы
там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия
синеет за чертой страницы,
как завтрашние облака,
и не кончается строка.
(Из романа, «Дар»)
Мы забываем, что влюбленность
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.
Покуда снится, снись, влюбленность,
но пробуждением не мучь,
и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.
Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте,
(Стихотворение Вадима из романа «Look at the Harlequins») 1973 г.
Примечания к стихотворениям на страницах 7, 8, 196, 206, 260, 265, 270, 278, 284 и 292 являются переводами, иногда сокращенными, тех примечаний, которыми В. Набоков сам снабдил эти стихи.
Стр. 7. Выражение «летит дождь» заимствовано мной у старого садовника, описанного мной в «Других берегах», который пользовался им, говоря о легком дождике перед самым выходом солнца. Стихи эти были мною сочинены в парке нашего имения, в последнюю весну, проведенную там моей семьей. Оно было напечатано в сборнике юношеских стихотворений одного моего школьного товарища и моих, «Два пути», вышедшем в Петрограде, в январе 1918 г., и было положено на музыку композитором Владимиром Ивановичем Полем в начале 1919 г.
Стр. 8. Главный — в сущности единственный — интерес этих строк состоит в том, что они выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 г. и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже больше полустолетия, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворению юного поэта. Возможно, что оно было напечатано в одной из ялтинских газет, но ни в один из моих позднейших сборников оно не вошло.
Стр. 196. В строках 17–20 фрейдисты усмотрели «жажду смерти», а марксисты, не менее нелепо, «жажду искупления феодального греха». Могу заверить и тех и других, что возглас в этой строфе — чисто риторический, стилистический прием, нарочито подсунутый сюрприз, вроде возведения пешки в более низкий ранг, чем ожидаемый ранг ферзя.
Стр. 206. Написанное свыше сорока лет тому назад, чтобы позабавить приятеля, это стихотворение не могло быть опубликовано ни в одном благопристойном журнале того времени. Манускрипт его только недавно обнаружился среди моих старых бумаг. Догадливый читатель воздержится от поисков в этой абстрактной фантазии какой-либо связи с моей позднейшей прозой.