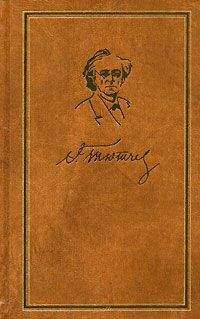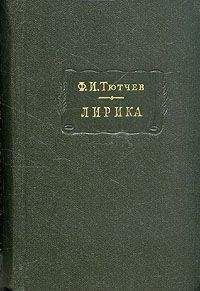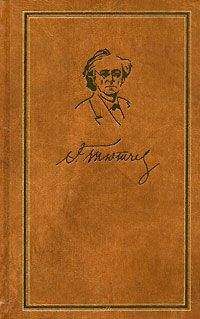У нас здесь полный кризис внешней политики из-за Дунайских княжеств, и как раз сегодня государь должен сделать выбор между Горчаковым и Будбергом*, находящимся здесь… Точно определить, в чем состоят разногласия между этими двумя господами, дело нелегкое. Во всяком случае, тут больше личных мотивов, чем политических… Пикантной подробностью дела является сверхрусский патриотизм Будберга, не признающего никакой осмотрительности, никакого выжидания и явно стремящегося стать русским Бисмарком…Нет ничего страшнее русского патриотизма у немца. Это все равно что взбунтовавшийся трус… а между тем необдуманные выходки сейчас более нежели когда-либо неуместны в нашей политике, которой для достижения успеха нужно лишь понять самоё себя и предоставить дело времени и силе вещей.
Мне бы очень хотелось воспользоваться обоими этими вспомогательными средствами для восстановления здоровья нашей дорогой Дарьи — бедняжки, дошедшей, по милости какого-то глубинного изъяна в ее душе, до того, что уже сейчас она ощущает ту обременительность бытия, на которую кто-то пожаловался в возрасте ста лет…* Она настолько погрузилась в болезнь, что, право, не знаешь, за что потянуть, чтобы ее оттуда вытащить…
Но прежде чем проститься, вот поручение к твоему мужу, за которое мне пришлось взяться. Оно исходит от молодого князя Волконского, коему твой муж обещал прислать несколько экземпляров своей заметки по поводу кончины его отца*.
А теперь, еще раз, да хранит Господь вас обоих. Сердечно ваш
Ф. Т.
Георгиевскому А. И., 30 марта 1866*
68. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ 30 марта 1866 г. Петербург
Петербург. 30 марта 1866
Друг мой Алек<сандр> Иваныч. Пора возобновить нашу прерванную беседу, тем более что в данную минуту есть о чем поговорить…
Итак, немыслимое совершится*. Предложение Пруссии о созвании немецк<ого> парл<амента> — не отсрочит, а упрочит войну…* Это взрыв мины для образования бреши перед приступом… Но эта немыслимость междоусобной войны в Германии есть лучшее свидетельство о совершенном отсутствии всякого историческ<ого> самосознания в современной публике… Это событие не только не немыслимо, оно было неминуемо… В продолжение четверти века, проведенных мною в Германии, я постоянно повторял немцам, что Тридцатилетняя война кроется, т<ак> с<казать>, в основе их историческ<ого> положения и что только русская опека временно сдерживает логическое развитие этой присущей силы*. — Ни один немец, к какой бы партии он ни принадлежал, разумеется, в этом не сознавался и до конца не сознается. Это также составляет характеристическую принадлежность данного положения. — Вопреки очевидного, осязательного собственного интереса племенная стихия в немцах взяла свое. Ненависть их к России пересилила чувство самосохранения. Тут опять-таки повторилось, на опыте, явление, столько раз повторяющееся в истории народных судеб, слагающихся вследствие их нравственного элемента. В характере немцев есть какая-то смесь крайней непрактичности с крайним умственным высокомерием — и эта-то смесь определила их отношение к России. Они, в продолжение тридцати лет, разжигали в себе это чувство враждебности к России, и чем наша политика в отношении к ним была нелепо-великодушнее, тем их не менее нелепая ненависть к нам становилась раздражительнее. Даже явная антинациональность тогдашней русской политики не могла ни на минуту примирить немцев с нею… Это многознаменательный факт… В продолжение сорока лет — единственных в истории судеб немецкого племени — это основное, исторически-роковое раздвоение Германии было сдерживаемо воздействием России. Только под этою опекою, самою благодушною и кроткою, и могло существовать единение между Австриею и Пруссиею, т. е. могла существовать Германия. — Не странно ли, что при нынешних обстоятельствах этот факт, который лежит в основе всего современного положения, преходится всеобщим молчанием — и не только в заграничной печати, но даже и в нашей, даже в «Моск<овских> ведомост<ях>», которым бы по праву следовало восстановить и выяснить его огромное значение*.
Как бы то ни было, в данную минуту этот немецкий разлад, кроме полнейшего удовлетворения для самолюбия нашего, оказывает нам положительную, существенную услугу… Только то, что зачинается теперь в Германии, предупредит, авось, то, что могло бы развиться при содействии Париж<ской> конфер<енции> по вопросу о Дун<айских> княжеств<ах>*, т. е. возобновление западноевропейск<ой> коалиции против России — и это также одна из тех присносущных исторических сил, которых упразднить, ни даже устранить никакой нет возможности, пока не изменятся все существенные условия современного политического мира. И мы были бы самые отъявленные кретины, если бы еще раз, вопреки всем данным, мы стали подвизаться в деле умиротворения начинающихся смут.
Мы не можем достаточно проникнуться убеждением этой, т<ак> с<казать>, стихийной враждебности Запада как целого в отношении к нам… Не союза с ним должны мы искать, а его внутреннего разъединения… Пока его составные части не враждуют между собою, европейская коалиция против нас всегда возможна и близка. Mors Caroli — vita Conradini, mors Conradini — vita Caroli* — вот то убеждение, которое должно жить и действовать в нас как инстинкт и как сознание.
Я читал все инструкции и все последовавшие депеши кн. Горчакова по вопросу о Княж<ествах> и могу уверить вас самым положительным образом, что все эти заявления, будь они опубликованы, принесли бы ему не менее чести, как и ноты его по польскому вопросу*. Они в высшей степени сознательны, определяют в точности и с большим достоинством наши настоящие отношения к делу и настаивают на одном только, чтобы всякое внешнее насилие — под каким бы то ни было предлогом, — могущее исказить естественное развитие дела, было устранено… В случае же явного нарушения этого условия мы, не обинуясь, постановили casus belli…[20] Мы не должны забывать, что при теперешних обстоятельствах наше даже самое энергическое действие должно быть более отрицательного, чем положительного свойства.
Знаете ли, что над вами висит предостережение*, — говорю вам это по секрету. — На воре шапка горит… Однако же до сих пор большинство Совета, т. е. весь Совет, за исключением председателя и маленьк<ого> человечка Фукса, противится всякой подобной мере. Ваши намеки на статью, помещенную в «Nord», сильно раздразнили*. — Но… страшен сон, да милостив Бог… и Его-то покрову я вас и поручаю.
Георгиевскому А. И., 4 апреля 1866*
69. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ 4 апреля 1866 г. Петербург
Петерб<ург>. 4 апреля 1866
Спешу досказать и выяснить мой вчерашний телеграф*. — Говорю не от своего имени, но от имени всех усердных и искренних друзей «Моск<овских> вед<омостей>». Вот как им, здесь, представляется положение дел.
Вследствие предостережения сочувствие огромного большинства на стороне вашей. Мотивированье предостережения всем почти кажется недобросовестным и нелепым. От вас, и от вас одних, зависит решить дело в вашу пользу или расстроить его, — судя по какой дороге вы теперь пойдете. Перед вами их две: или идти напролом — очертя голову и обходя существующий закон — и несколькими взрывами раздражения, впрочем, весьма естественного, вызвать какую-либо катастрофу в существовании «М<осковских> ведомостей». Вот чего желают, чего ждут, на что рассчитывают все их разнородные, но в этом единодушные недруги и недоброжелатели ваши…* Или, в полном сознании вашего призвания, вашего огромного значения для общего дела, ваших обязанностей к России, сберечь себя для нее и не выдать противной стороне занимаемой вами позиции, а, напротив, усилив ее, довершить вами начатое, а это вам так легко — при некоторой сдержанности. Вам стоит только, удовлетворив без отлагательства закон, на другой же день продолжать вашу беседу с публикою, как бы не обращая внимания на неуместную, неприличную выходку, которою, со стороны, пытались было перебить вашу умную, добросовестную речь, — но тут же, исподволь, выясняя спокойно и отчетливо, в чем кроется преднамеренное, умышленное malentendu,[21] послужившее поводом к предостережению, а именно: могут ли люди, хотя и влиятельные, хотя и высоко поставленные, но которых мнения явным образом противуречат не только всякому национальному чувству, всякому национальному стремлению, но и положительному направлению всей правительственной системы, — могут ли эти люди, кто бы они ни были, претендовать на правительственный авторитет и на те права и привилегии, которыми закон оградил неприкосновенность правительственной власти? и противодействовать этим людям — значит ли подрывать доверие к правительству? За фактами, для пояснения дела, ходить далеко не для чего, а сгруппировать и осветить надлежащим светом — на это вы большие мастера… Вот, друг мой Алек<сандр> Ив<аныч>, вот что поручено было мне передать М<ихаилу> Н<икифоровичу> от имени всех его здешних искренно преданных, но сильно озабоченных друзей и поклонников*.