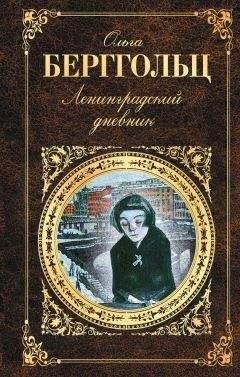Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.
Я дура – просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра – тревоги, страхи, боль…
28/IX-41
Сегодня в 8 ч. вечера, когда я сидела в газоубежище Дома радио, в соседний дом упали бомбы и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в дом № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться – не слышно было, как они свистели, – предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.
Я уже не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было четыре тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и – конечно, над нами – вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать»…
14/XI-41
Записываю что-то такое кое-как, на разных листках. Хотя и очень поздно, и ночь спокойная, – хочу урвать у себя время – чуть побыть одной с бумагой, пером и черным кофе. Нерационально, – все время поступаю нерационально: не экономлю кофе, – а голод сверхреален, – что буду делать потом? Не сплю, когда бомбят, – а предыдущие ночи все время выло – и спать было трудно… Ну а иначе – совсем не жизнь…
Только что был большой припадок у Кольки, наяву. Едва очнувшись, он шептал мне – «любовь моя», – и у меня все рвалось внутри.
Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю! Я люблю его как жизнь, – и хотя эти слова истерты, в данном случае только они точны. Пока он есть – есть и жизнь, и даже роман с Юрой. Если его не будет – кончится жизнь.
14/I-42
О Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь?
Твое сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно…
Оно страшнее той дикой ледяной ночи, которую я провела с тобой 11 января. Я не в силах была остаться рядом с тобой – я начинаю сама сходить с ума, я изнемогаю от сознания своего бессилия перед снедающей тебя болезнью: быть рядом с тобой, ничем тебе не помогая, а только слушать твой бред и глядеть в твое лицо – нет, я не могу, это гибель и мне, и тебе.
Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.
Да еще эта проклятая бюрократическая машина, из-за которой тебя до сих пор не могут отправить туда, где бы тебе могли оказать реальную помощь.
Завтра буду звонить Никитскому, буду звонить в Смольный, звонила Хамармеру, – но Охта не работает уже второй день… Ленинград, блокада, развалившаяся жизнь города душат нас с тобой своими чудовищными обломками.
Радость моя, и жизнь, и гордость, если ты погибнешь, я хочу погибнуть с тобою.
Вот я оставила тебя на попечение добрых людей, сама сижу на радио и что-то пишу, пытаюсь вынырнуть из бездны ужаса и смерти, куда меня и тебя тянет.
Или мне надо сидеть над нею, над твоим безумным, страшным лицом?
Но мы оба должны выжить. Я только истерзаюсь рядом с тобою, только потеряю последние силы, нужные для тебя, – и всё. И всё, что будет в результате.
Даже если это твои последние часы на земле…
НЕТ!
Не может этого быть! Инстинкт подсказывает мне правильно, – мне нужно сберечься, выжить, потому что нужно вытащить тебя, а если ты погибнешь, я жить перестану. Даже не умерев, – перестану существовать. Боюсь, что не хватит сил покончить с собою. Ну, умру так…
О, боже мой… О, что же делать, что делать, как поскорее помочь тебе?
Держись! Ничего, я вытащу тебя… Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов – и бешено работать, чтоб иметь деньги, мы устроимся у Линки, и, господи, – ведь скоро конец блокады!
Скоро мы вздохнем с пищей… Но все равно – мы уедем отдыхать, мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине… Держись! Держись еще немного, мой единственный, мое счастье, изумительный, лучший в мире человек!
Держись!..Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя.
А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь…
Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу. Да, мы должны выжить, и я буду писать – работать, потому что иначе – смерть.
7/II-42
…А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батька, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет паспорта – и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М. б., сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже нет папы?
Народ умирает страшно. Умерли Левка Цырлин, Аксенов, Гофман – а на улицах возят уже не гробы, а просто зашитых в одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних санях. Яшка заботится об отправке – спасении нашего оркестра, 250 чел. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».
Кругом говорят о смертях и покойниках.
Неужели мы выживем – вот я, Юра, Яша, папа?
………………………………………………………
Пол-одиннадцатого – папы нет. О, Господи…
Папа так и не пришел. Просто не знаю, в чем дело. Он очень хотел прийти – я приготовила ему 2 плитки столярного клея, кулек месятки, бутылку политуры, даже настоящего мяса. Что с папой?
Мое омертвление дошло до того, что я даже смеюсь с ребятами…
8/II-42
Папу держали вчера в НКВД до 12 ч, а потом он просто не попал к нам потому, что дверь в ДР была уже закрыта. Его, кажется, высылают все-таки. В чем дело, он не объяснил, но говорит, что какие-то новые мотивы, и просил «приготовить рюкзачок». Расстроен страшно. Должен завтра прийти. В чем дело – ума не приложу, чувствую только, что какая-то очередная подлая и бессмысленная обида. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей.
Я ходила к отцу несколько дней назад, как он трогательно и хлопотливо ухаживал за мною, как горевал о Коле. И никогда не забуду я его лица при свете свечки, ставшего вдруг каким-то необычайно милым, детским, когда он сказал мне:
– А у меня, понимаешь ли, какая-то такая жажда жизни появилась, – сам удивляюсь. Вот я уже думаю, как мой садик распланировать, – весной. Деревянный-то забор мы уже сожгли, но я тут моток колючей проволоки присмотрел – обнесу садик колючей проволокой… Понимаешь, мне семена охота покупать, – цветы сажать, розы. Покупать вообще хочется. Я вот пуговиц накупил зачем-то, пряжек, обои хочу купить, комнату оклеить. Страшная какая-то жажда жизни появилась, черт ее возьми…
В его маленькой амбулатории – тепло, чисто, даже светло – есть фонари и свечи. Он организовал лазарет для дистрофиков, – изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет – уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.
Естественно – мужественно, без подчеркивания своего героизма человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно – несмотря на горчайшую обиду, нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что собрались высылать, жил общей жизнью с народом – сам народ и костяк жизни города, – и вот!
Что-то все-таки откопали и допекают человека.
Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии.
Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов, – «и мы пахали!» О, мразь, мразь!
Практически лучше, чтоб отец уехал из этого морга (говорят, что умерло уже около полутора миллионов ленинградцев). Если обида – только обида, черт с нею, – пусть едет. Доберется до мамы, там устроится, только бы вынес дорогу…
С утра настроение было рабочим, хотелось писать о Хамармере, а сейчас, из-за отца, вновь все кажется ложью и фальшью.
К чему все наши усилия, если остается возможность терзать честного человека без всяких оснований?
Ни к чему! Ни к чему.
Друг мой, ты честен: покинь этот край!
25/II-42
…Утром, когда уходили, на район был дикий артналет, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагазине птицы. Нас не убило, хотя ложились везде, близко. Мне было страшно, я хотела жить и, очень стыдясь своей трусости, уговорила его обождать налет в подъезде…
А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.
Она приехала к нам на грузовике, с продовольственными посылками для Союза писателей, мне тоже – большая посылка, и она кое-что привезла.