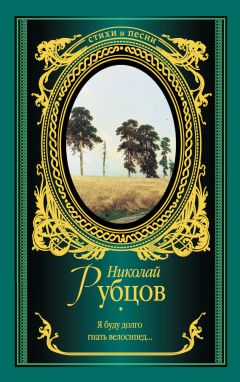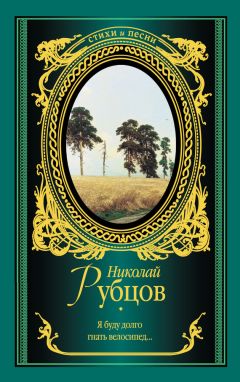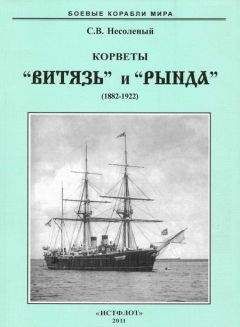О собаках
Не могу я видеть без грусти
ежедневных собачьих драк…
В этом маленьком захолустье
поразительно много собак!
Есть мордастые – всякой масти,
есть поджарые – всех тонов.
Подойди —
разорвут на части
иль оставят
вмиг
без штанов…
Говорю о том не для смеху.
Я однажды подумал так:
«Да, собака друг человеку, —
одному…
А другому – враг!»
Ленинградская обл.,
пос. Приютино, 1957
Я марширую на плацу.
А снег стегает по лицу!
Я так хочу иметь успех,
я марширую лучше всех!
Моя веселая родня
письмо получит про меня.
Его
любимая моя —
прочтет, дыханье затая.
Довольны мною все кругом!
Доволен мичман и старпом!
И даже – видно по глазам —
главнокомандующий сам!
Ленинград,
9 июля 1962
…Ах, что я делаю?
За что я мучаю
больной и маленький
свой организм?..
Да по какому ж
такому случаю?..
Ведь люди борются
за коммунизм!
Скот размножается,
пшеница мелется,
и все на правильном
таком пути!..
Так, замети меня,
метель-метелица…
Ох, замети меня,
ох, замети…
Ленинград,
декабрь, 1961
Сколько водки выпито!
Сколько стекол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!
Где-то дети плакали…
Где-то финки звякали…
Эх, сивуха сивая!..
Жизнь была… красивая!
Ленинградская обл.,
пос. Невская Дубровка, 1959
«Снуют. Считают рублики…»
Снуют. Считают рублики.
Спешат в свои дома.
И нету дела публике,
что я схожу с ума!
Не знаю, чем он кончится,
запутавшийся путь,
но так порою хочется
ножом…
куда-нибудь!
Ленинградская обл.,
пос. Приютино, 1957
Да, умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана в лоб!
Может быть,
гробовщик толковый
смастерит мне хороший гроб…
А на что мне хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!
Жалкий след мой
будет затоптан
башмаками других бродяг.
И останется все,
как было —
на Земле,
не для всех родной…
Будет так же
светить Светило
на заплеванный шар земной!..
г. Ташкент,
1954
Мы встретились у мельничной запруды,
и я ей сразу
прямо все сказал!
– Кому, – сказал, – нужны твои причуды?
– Зачем, – сказал, – ходила на вокзал?
Она сказала: – Я не виновата…
– Ну, да, – сказал я, – кто же виноват?
Она сказала: – Я встречала брата.
– Ха-ха, – сказал я, – разве это брат?!
В моих мозгах чего-то нехватало:
махнув на все, я начал хохотать!
Я хохотал. И эхо хохотало.
И грохотала мельничная гать.
Она сказала: – Ты чего хохочешь?
– Хочу, – сказал я, – вот и хохочу!
Она сказала: – Мало ли, что хочешь!
Тебя я слушать больше не хочу!
Конечно, я ничуть не испугался.
Я гордо шел на ссору и разлад.
И зря в ту ночь сиял и трепыхался
в конце безлюдной улицы закат!..
Ленинград,
1960
Тяжело молчал
валун-догматик
в стороне от волн.
А между тем —
я смотрел на мир,
как математик,
доказав с десяток теорем!..
Скалы встали
перпендикулярно
к плоскости залива.
Круг луны.
Стороны зари равны попарно,
волны меж собою
не равны.
Вдоль залива,
словно знак вопроса,
дергаясь спиной и головой,
пьяное подобие матроса
двигалось
по ломаной кривой.
Спотыкаясь даже на цветочках —
(Боже! Тоже пьяная «в дугу»!..) —
чья-то равнобедренная дочка
двигалась,
как радиус в кругу!
Я подумал, это так ничтожно,
что о них нужна, конечно, речь,
но всегда
ничтожествами
можно,
если надо, просто пренебречь!
И в пространстве —
светлом,
чистом,
смелом —
облако – (из дальней дали гость) —
белым,
будто выведенным мелом,
знаком бесконечности неслось!
Ленинград,
1961
МУМ (Марш уходящей молодости)
Стукнул по карману, – не звенит:
как воздух.
Стукнул по другому, – не слыхать.
Как в первом…
В коммунизм – таинственный зенит
как в космос,
полетели мысли отдыхать,
как птички.
Но очнусь и выйду за порог,
как олух.
И пойду на ветер, на откос,
как бабка,
о печали пройденных дорог,
как урка,
шелестеть остатками волос,
как фраер…
Память отбивается от рук,
как дура.
Молодость уходит из-под ног,
как бочка.
Солнышко описывает круг,
как сука, —
жизненный отсчитывает срок…
Как падла!
Ленинград,
апрель, 1962
«Ты называешь солнце блюдом…»
Ты называешь солнце
блюдом…
Оригинально. Только зря:
с любою круглою посудой
Светило
сравнивать нельзя!
А если можно,
значит можно
и мне,
для свежести стишка —
твой череп,
сделанный несложно,
назвать…
подобием горшка!
Ленинград,
1960
Поэт перед смертью
сквозь тайные слезы
жалеет совсем не о том,
что скоро завянут надгробные розы
и люди забудут о нем,
что память о нем —
по желанью живущих
не выльется в мрамор и медь…
Но горько поэту,
что в мире цветущем
ему
после смерти
не петь…
Ленинградская обл.,
пос. Приютино, 1957
Влетел ко мне какой-то бес.
Он был не в духе или пьян,
и в драку сразу же полез:
повел себя, как хулиган!
И я спросил: – А кто ты есть?
Я не люблю таких гостей.
Ты лучше с лапами не лезь:
не соберешь потом костей!
Но бес от злости стал глупей
и стал бутылки бить в углу.
Я говорю ему: – Не бей!
Не бей бутылки на полу!
Он вдруг схватил мою гармонь.
Я вижу все. Я весь горю!
Я говорю ему: – Не тронь!
Не тронь гармошку! – говорю…
Хотел я, было, напрямик
на шпагах драку предложить,
но он взлетел на полку книг:
ему ещё хотелось жить!
Уткнулся бес в какой-то бред
и вдруг завыл: – О, Божья мать!
Я вижу лишь лицо газет,
а лиц поэтов не видать…
И начал книги из дверей
швырять в сугробы декабрю…
Он обнаглел, он озверел!
Я… ничего не говорю.
Ленинград,
1960
Трущобный двор.
Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И ходит холод ветреный и резкий.
И стены погружаются во мглу.
Гранитным громом
грянуло с небес!
Весь небосвод в сверкании и в блеске!
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
как тяжело ссутулился, исчез.
Не может быть,
что это был не он!
Как без него представить эти тени,
и странный свет,
и грязные ступени,
и гром, и стены с четырех сторон?!
Я продолжаю верить в этот бред,
когда в свое притонное жилище
по коридору,
в страшной темнотище,
отдав поклон,
ведет меня поэт…
Он, как матрос, которого томит
глухая жизнь в задворках и в угаре.
– Какие времена на свете, Гарри!..
– О! Времена неласковые, Смит…
В моей судьбе творились чудеса!
Но я клянусь
любою клятвой мира,
что и твоя освистанная лира
еще свои поднимет паруса!
Еще мужчины будущих времен,
(да будет воля их неустрашима!) —
разгонят мрак бездарного режима
для всех живых и подлинных имен!
…Ура, опять ребята ворвались!
Они еще не сеют и не пашут.
Они кричат,
они руками машут!..
Они как будто только родились!
Они – сыны запутанных дорог…
И вот,
стихи, написанные матом,
ласкают слух отчаянным ребятам,
хотя, конечно, все это – порок!..
Поэт, как волк, напьется натощак,
и неподвижно,
словно на портрете,
все тяжелей сидит на табурете.
И все молчат, не двигаясь никак…
Он говорит,
что мы – одних кровей,
и на меня указывает пальцем!
А мне неловко выглядеть страдальцем,
и я смеюсь,
чтоб выглядеть живей!
Но все равно опутан я всерьез
какой-то общей нервною системой:
случайный крик, раздавшись над богемой
доводит всех
до крика и до слез!
И все торчит:
в дверях торчит сосед!
Торчат за ним
разбуженные тетки!
Торчат слова!
Торчит бутылка водки!
Торчит в окне таинственный рассвет.
Опять стекло оконное в дожде.
Опять удушьем тянет и ознобом…
…Когда толпа
потянется за гробом,
ведь кто-то скажет: «Он сгорел… в труде.
Ленинград,