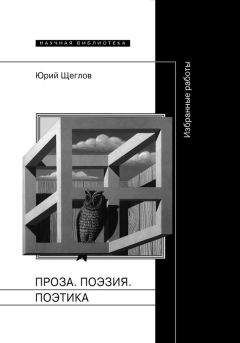«ГАРМОНИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ» И «ПОЭЗИЯ ГРАММАТИКИ»
В СТИХОТВОРЕНИИ ПУШКИНА
«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ…»
Знаменитое стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье…»; далее обозначается просто как К*** – без кавычек) написано в середине 1820‐х годов – в период, когда лирический стиль Пушкина все еще прочно находился в русле «школы гармонической точности», восходящей к К. Н. Батюшкову и В. А. Жуковскому. Главным признаком этой школы в русской романтической поэзии был – согласно Л. Я. Гинзбург – «предрешенный стиль авторского сознания», в связи с которым оказывались «предрешены основные соотнесенные между собой элементы произведения: его лексика, семантические связи» (Гинзбург 1974: 25). Лирическое произведение было пронизано разветвленной системой поэтических мотивов, образов и формул, предназначенных для широкого спектра оттенков и фаз чувства, для различных мыслей и душевных состояний лирического «я».
Оказывается, что из этих вполне обкатанных формул, во всяком случае на лексико-фразеологическом уровне, состоят некоторые из наиболее известных произведений русской лирики данного периода. В отличие от эпигона настоящий поэт сознательно организует этот материал:
Стихотворение <…> развертывает перед читателем непрерывную цепь освященных традицией слов в их гармонической сопряженности; именно в этом его поэтическая действенность (Гинзбург 1974: 43–44).
Исследовательница приводит в качестве примера стихотворения Батюшкова «На смерть супруги Ф. Ф. Кокошкина» и «К другу». Иностранцу подобный текст в дословном переводе может показаться собранием банальных, стертых идей (как порой и воспринимались на Западе даже весьма проницательными критиками произведения самых больших русских поэтов), ибо техническая организованность, «гармоническая сопряженность» этих стихов непередаваема на другом языке, да и немногие переводчики стремятся ее уловить и воспроизвести.
Повторяемостью часто отличались сами лирические сюжеты, т. е. типы того, что могло случаться с поэтической персоной с событийной точки зрения; какого рода переживания и ситуации чаще других образовывали стержень стихотворения, как могла линейно развертываться траектория душевных состояний лирического героя.
Одним из распространенных сюжетов была история чувства и эволюция лирической персоны, которая
(а) сначала находится в расцвете сил и чувств,
(б) затем переживает период увядания, впадает в бесчувственность и апатию (депрессию, сказали бы мы сегодня),
(в) и, наконец, при счастливом исходе, пробуждается к новой жизни под воздействием тех или иных душевных и физических возбудителей.
Строго обязательно присутствует только фаза (в) пробуждение; почти обязательно – фаза (б) упадок; и факультативно – фаза (а) былое счастье.
Воспоминание о фазе (а) может насыщать фазу (б) и способствовать наступлению фазы (в).
Три фазы могут по-разному распределяться между прошлым, настоящим и будущим. Например, либо все три развертываются в прошедшем времени, как уже пережитые к моменту рассказа; либо фаза (а) дается как прошедшее, фаза (б) – как переживаемое в настоящий момент и фаза (в) как ожидаемое, призываемое в мечтах и надеждах лирического героя, в его мольбах о спасении, и т. д.
Этой общей схеме следует лирический сюжет в целом ряде известных стихотворений Жуковского, Батюшкова и испытавших их влияние поэтов «школы гармонической точности». Примеры, кроме рассматриваемого в статье стихотворения Пушкина63:
Батюшков, «Выздоровление» [Как ландыш под серпом убийственным жнеца… – представлены фазы (б) и (в); наиболее чистый и яркий пример данного сюжета]; Батюшков, «К другу» [Скажи, мудрец младой, что прочно на земли… – представлены фазы счастья и веселья (а), разочарования (б), и утешения в вере (в)];
Жуковский, «Я Музу юную, бывало… » [налицо фазы (а), (б), ожидается (в)]; Жуковский, «Весеннее чувство» [Легкий, легкий ветерок, / Что так сладко, тихо веешь?.. – фаза (в) с намеками, в виде слова «опять», на прошлые фазы (а) и (б): Чем опять душа полна? / Что опять в ней пробудилось? здесь и далее выделено мной – Ю. Щ.]; Жуковский, «Жизнь» [Отуманенным потоком… – фазы (б), (а), (б), (в)]; Жуковский, «Желание» [Озарися, дол туманный… – фазы мрачного настоящего (б), а затем призывания и стремления к лучшему (в)]; Жуковский, «Песня» [Розы расцветают… – фазы надежды на будущее (в), подразумеваемого настоящего (б), затем опять (в) как возможного будущего].
Дадим этому обобщенному сюжету (или, если угодно, «архисюжету») имя «Увядание и обновление».
Пушкинское «Я помню чудное мгновенье…» полностью укладывается в тематико-лексико-фразеологическую систему «гармонической точности». Не только лирический сюжет в целом (яркая иллюстрация архисюжета «Увядание и обновление»), но и каждый его этап, равно как и каждый стих, имеет близкие параллели у других мастеров школы, начиная с Батюшкова и Жуковского. Многие из находимых в К*** мотивных и словесных клише употребляются преимущественно в данном типе сюжета, другие встречаются в разнообразных контекстах и в рамках различных лирических сюжетов. К*** представляет собой типичный образец поэтики данной школы, своего рода антологию ее общих мест, представленных у Вяземского, Баратынского, Кюхельбекера, молодого Пушкина и других. В нем используются наиболее частотные образцы этих формул, причем они приведены к некоему образцово‐усредненному, «базисному» стилю, воздерживающемуся от слишком оригинального развития: эпитетов, метафор, сильных гипербол и других стилистических «ярких пятен». Развитие сюжета отличается стройностью и ясностью, в нем отсутствует теснота мотивов и образов; напротив, имеет место некая разреженность, достигаемая прежде всего выбором наиболее известных элементов «гармонической точности», а также обилием повторений и параллелизмов (что особенно характерно для Пушкина). Своей стройностью и легкостью стихотворение обязано также почти идеальному совпадению тематических, синтаксических и строфико-стиховых членений.
Указанные особенности стихотворения, конечно, не объясняют сами по себе его поэтического воздействия, запоминаемости и вообще того ощущения идеальности построения, которое испытывает каждый чуткий читатель. Наоборот, они наводят на вопрос о том, на каких других уровнях и какими средствами, кроме названных, компенсируется столь явная нейтральность, условность, усредненность тематических и стилистических средств. Иными словами, в чем следует искать источник своеобразия и поэтической силы стихотворения?
Пользование общеупотребительным набором поэтических средств не мешало крупным поэтам создавать оригинальные творения и достигать в них большой выразительности и динамики. Как справедливо указывала Гинзбург, у сильных поэтов «предрешенность» стиля и авторской персоны восполнялась искусством и изобретательностью в технических планах стихотворчества. В частности,
очевидно, что в поэтике традиционных поэтических образов синтаксис должен был иметь особое, часто решающее значение. Именно на ритмико-синтаксический строй ложилась тогда задача извлечения из слов тонких дифференцирующих оттенков (Гинзбург 1974: 45).
В работах русских формалистов и их последователей к ритму и синтаксису добавляются, как мы знаем, и другие традиционные сферы конструктивных решений, такие как рифма, строфика, фонетика, интонация (мелодика). Роль творческого начала в этих планах Гинзбург иллюстрирует сравнением двух элегий – Жуковского и Плетнева. Оба поэта пользуются аппаратом «гармонической точности», в которой Плетнев является верным учеником Жуковского. Но в умелом применении стиховых и синтаксических средств две элегии несравнимы:
У Плетнева все налицо – и условная вещественность описательной поэзии, и гармонический слог. И как ровно, не зацепляя внимания, выстраиваются ряды этих строк. А читатель Жуковского все время в напряжении – от гибкого синтаксиса, от <…> противоречив[ых] скрещен[ий] слов <…> Большие поэты умели сочетать узнаваемое с неожиданным. Эпигонам это было не по силам (Гинзбург 1974: 47).
В этой статье мы хотим на примере пушкинского К*** продемонстрировать оба аспекта, о которых пишет Гинзбург, – как «предрешенность» лексико-стилистического арсенала, так и оригинальность технической разработки и фактуры, спасающей произведение от «не зацепляющей внимания» гладкости. При этом «ритмико-синтаксический строй», столь важный для традиции русского формализма, не будет единственным объектом анализа. Для оценки технических находок и решений крайне важным представляется тот аспект, который был предметом поздних работ Р. О. Якобсона (1950–1980‐е годы) и за которым закрепилось, по названию одной из его самых известных статей, общее имя «поэзия грамматики и грамматика поэзии»64. В этих работах на широком разноязычном материале исследуются многочисленные симметрии, параллелизмы, изоморфизмы, повторы, переклички, кольца и другие упорядоченные соотношения и фигуры, обнаруживаемые на формальных уровнях стихотворения, – прежде всего фонетическом, словораздельном, рифменном, грамматическом (включающем как морфологию, так и синтаксис) и др. Вся эта сфера, которую ученый иногда называет также «архитектоникой» или даже «геометрией» стиха, разрабатывалась им с большой филологической проницательностью и филигранной тонкостью. Стихотворения подвергались членению (сегментации) по разным признакам, и в каждом из получающихся членений могла обнаруживаться собственная сетка соотнесенных формальных черт, оригинально налагаемая на соответствующие сетки, находимые в других сегментационных планах.