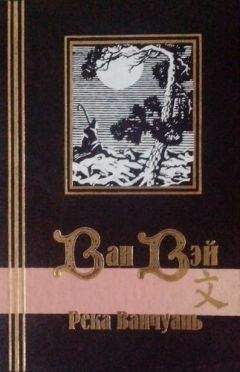Главное в жизни — это вовсе не стремление постоянно рассуждать о Будде, об истине. Главное в постижении истины — внезапное озарение, но снисходящее не на каждого, а на человека подготовленного и посвященного. Но, несмотря на идею о внезапном озарении, учение чань-буддизма настаивает на практике медитации. Изучая чань, практикуя чань (путем медитации), не следует постоянно об этом размышлять, ибо попасть в ловушку слов и представлений о чань — это, по словам чаньских наставников, значит «внять чань». Только тогда, продолжали наставники, когда в твоем сознании нет ни единой вещи, а в вещах нет сознания, ты свободен и одухотворен — «пуст и чудесен».
Поэты-отшельники
В китайской литературе еще до распространения буддизма существовал идеал поэта-отшельника. Одним из первых, кто воспел отшельничество в китайской поэзии, был Тао Юаньмин (365–427). Несмотря на то что в стихах поэта содержится прямой призыв к уходу от общества, отказу от блестящей чиновничьей карьеры, это, как справедливо указывают исследователи, скорее, все-таки «отшельничество мысли» [115].
Как известно, китайская средневековая поэзия во многом прямо отражала жизнь поэта. Так, если стихи Тао Цяня дышат неприятием мирской суеты, то и на деле поэт оставляет чиновничью карьеру и поселяется в деревне. Если Тао Цянь прославляет вино, он действительно знает в нем толк. Достаточно для убедительности вспомнить такие произведения, как «Домой к себе», «Возвратился к садам и полям». В устоявшееся понятие «естественность» Тао Юаньмин вкладывает, по существу, понятие того, что жизнь человека есть его первозданная свобода, не связанная пыльной сетью мирской суеты. Поэт призывал уйти к «людям с простыми сердцами» [115].
С проникновением буддизма в китайской поэзии появляется образ поэта-монаха, поэта-отшельника, живущего в буддийском монастыре. Танские поэты, трепетавшие перед именем Тао Юаньмина, стремились буквально во всем подражать знаменитому поэту, проповедовавшему идеал отшельничества и призывавшему к «возвращению к естественности».
К тому времени даосизм в Китае в большей степени был пропитан идеями Чжуанцзы. Влияние Чжуанцзы, его образа мыслей, идей, высказанных в памятнике китайской философии «Чжуанцзы», явственно присутствует и в классической китайской поэзии. Китайская поэзия тайской поры, проникнутая даосскими воззрениями, в особенности воспевает человека, стоящего вне мирских условий, отшельника по сути. Воспевает человека, осененного и проникнутого духом дао.
Воспевает человека — носителя Дао. (Следует напомнить о том, что совсем не случайно термин «дао», буквально означающий «путь», оказался заимствован всеми существовавшими в ту пору в Китае философскими системами, в том число буддизмом.)
Поэт прежде всего должен быть носителем качеств, присущих дао-человеку,
— эта мысль особенно страстно была выражена в поэзии Сыкун Ту, а также в основополагающем его труде «Шипинь» («Категории стихотворений»).
Жизнь поэта среди людей, по Сыкун Ту, полна стремлений быть обособленным от них. Поэт — это прежде всего человек с возвышенной душой, проникнутый великой идеей. Он пребывает в молчании, одинок среди людей; древнее, идеальное начало живет в его душе, обособленной от мирского. Поэт — истинный носитель качеств Дао — и в толпе людей остается отшельником, отрешается от грубой повседневности, презирает золото, чины и прочие атрибуты кажущегося земного благополучия.
Но было бы ошибочным полагать, что китайский поэт-отшельник был аскетом. Примером может служить тема дружбы, воспетой в китайской поэзии.
Поэт-отшельник спокойно мог прервать свое одиночество и отправиться искать искреннего друга, отшельника, как и он сам; человека образованного и ученого, чья душа наполнена светом Дао. Вот происходит встреча где-нибудь в тиши вечных гор, и тишина нарушается звуком лютни и читаемыми вслух экспромтами, и все это сдабривается хорошим вином, что усиливает совместное наслаждение уходом от мира. Могло быть и иначе: поэт, влекомый острым желанием увидеть друга, преодолевает массу препятствий в виде горной реки, дождя и мокрого снега и вдруг у самого порога хижины друга поворачивает назад, так и не увидевшись с ним, — желание встречи прошло, и он, следуя принципу «цзыжань», поворачивает назад.
В танскую эпоху буддизм оказался как раз тем учением, к которому стремились люди из различных сословий китайского общества, да и не только китайского. Так, академик Н. И. Конрад, говоря о буддизме в Японии в пору средневековья, отмечает, что«…буддизм стал утешением, прибежищем для многих; в нем спасение и счастье стали находить все неудачники, изгнанники счастья и жизни, униженные и оскорбленные, а то и просто люди с иным складом ума и чувств, с иначе настроенной волей, не вмещающиеся в общее русло течения культуры и истории. Он принимал всех и каждому из них давал, мог дать все, что тому было нужно. Отсюда расцвет буддизма и появление значительного числа сект, толков, основание новых храмов и монастырей с толпой последователей и монахов» [60, с. 182].
Буддийские монастыри часто принимали под свой кров странствующего поэта, поэта-отшельника, поэта-чиновника, отправлявшегося к месту нового назначения и которого ночь застала в пути. В китайской поэзии с новой силой зазвучала тема отшельничества. В отличие от «отшельничества мысли», т. е.
соображений философских, на первый план порой стали выходить соображения как религиозного, так и социального характера, вызывавшиеся реальными обстоятельствами — разочарованием в чиновничьей карьере, среде, где процветали взяточничество и продажность. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что уход от реальной действительности в большей степени стал окрашиваться в буддийские тона.
История танской поэзии знает выдающихся поэтов-монахов, таких, как Цзяожань, Цзядао, Гуаньсю, Цицзи. Темой их поэтических произведений являлась прежде всего сама природа, воспевание ее в чистом виде как таковой. Конечно же, постоянной темой оставались рассуждения по самым различным аспектам буддийского учения. Поэты-буддисты в традиционное китайское понятие «цзыжань» — «естественность» — внесли новое содержание.
Ван Вэй также призывает к уединению, и это настроение наконец-то обретенного уединения на лоне природы присутствует во многих его стихотворениях, например, в стихотворении «Оленья тропа»:
Пустынны горы — нигде не видно ни души,
Лишь слышны где-то голоса людей.
Солнца блики на лес легли —
И вдруг лучи его вернулись и осветили мох зеленый.
Подобное же настроение с оттенком легкой грусти передается и в стихотворении «Беседка в зарослях бамбука»:
Я в одиночестве сижу средь темных зарослей бамбука,
На цине играю, насвистываю мелодию.
Как лес глубок, никто не знает,
И ясная луна пришла ко мне светить.
Но это уединение Ван Вэя, на наш взгляд, лишено религиозного стремления оставить суетный мир людей. Скорее всего это общение с природой, попытка полного слияния с ней, ощущение себя ее составной частью, что давало поэту заряд поэтического вдохновения, помогало переносить личные неудачи. Природа не изображалась«…почти никогда в отрыве от человека: даже если природа одна и как будто сама по себе, все равно за нею следит одушевляющий ее внимательный взгляд поэта, без которого нам ничего не увидеть и ничего не понять. Как ничего не увидит и сам поэт, если он живет в суете, не замечая, как сменяются времена года» [120, с. 197]. Тема отшельничества была близка Ван Вэю, поэт встречается в своих частых переездах и путешествиях с отшельниками, посвящает им свои произведения.
Состоящий из двух произведений стихотворный цикл «Отшельнику Ху во время его болезни и своей. Одновременно показываю, как следует учиться [буддизму]» можно считать квинтэссенцией буддийского мировоззрения Ван Вэя, выраженной им в стихах. Рискуя утомить читателя длинной цитатой, следует все-таки полностью привести эти два стихотворения поэта, которые являются лучшим доказательством высказанного нами утверждения. Первое стихотворение Ван Вэй начинает тем, что он не может не думать о человеке, его заботах и нуждах, о кратковременности человеческой жизни, несмотря на обещание буддийского вероучения о грядущих перерождениях:
Как только появляется мысль о земле-пылинке,
Тут же, наперекор, появляется мысль о человеке,
жизнь которого словно утренняя роса.
Далее Ван Вэй рассуждает о таких понятиях, как «я» и «бытие», которые есть главное препятствие на пути достижения вечного блаженства — нирваны:
И если ты видишь подземный мир инь,
Как правильно утвердить «я»{422} у людей?
Препятствие — это бытие, и оно является основным.
В устремлении к Пустоте предпочитают отбросить все приходящее.
Поэт считает, что достигнуть освобождения, вырваться из порочного круга бесконечных перерождений можно лишь путем очищения сознания от порочных мыслей, путем «очищения сердца»; но здесь есть опасность заблудиться в бесчисленных и противоречивых буддийских догматах: