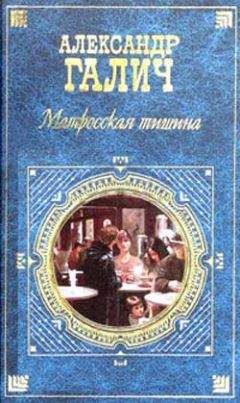- Господин Киселев, - сурово сказал я, - сидит у себя в номере и очень сердится!..
И все это оказалось неправдой!
Господин Киселев не сидел у себя в номере и не сердился. Господин Киселев стоял у подъезда гостиницы, крепко - чтобы не потеряться и не заблудиться - держась одной рукой за ручку двери, и смотрел на пустырь, что находился напротив гостиницы.
По пустырю, уставленному в живописном беспорядке огромными металлическими корзинами для мусора, - стаями, нахально, бродили сытые коты и кошки, и рылись в отбросах две старухи.
Но небо над пустырем было сиреневым в розовых разводах и откуда-то доносились автомобильные гудки и музыка.
И господин Киселев даже не обернулся, когда я подошел и сказал:
- Илья Николаевич, ничего не попишешь, придется нам здесь переночевать! Одну ночь! Утром переедем в другой отель!
Он не ответил. Он продолжал, чуть приоткрыв рот, смотреть на пустырь. Он тяжело дышал и в груди у него что-то булькало и хрипело.
- Илья Николаевич! - уже слегка обеспокоенный - не случилось ли чего? окликнул я. - Что с вами, Илья Николаевич?!
И все так же, молитвенно и неотрывно глядя на пустырь, на мусорные корзины, на котов и старух, господин Киселев тихо проговорил:
- Париж!.. Какой город, а?!.
...Эту историю я вспоминаю всякий раз, когда кто-нибудь начинает при мне жаловаться на то, что из него тянут жилы с разрешением на выезд в Израиль.
А что же вы хотите, друзья мои?! А как же иначе?.
Обыкновенный рядовой советский человек имеет право один раз в три года поехать в туристскую поездку в какую-нибудь капиталистическую страну. Один раз в три года, всего на семь-девять дней гражданин из страны победившего социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат, может мельком взглянуть на страшный мир, где человек человеку волк.
Но и на подобного рода поездку дают разрешение далеко не каждому. И всякий раз - это многомесячная трепка нервов, это бессонные ночи и лихорадочное ожидание: пустят или не пустят?. И если не пустили (а сообщать причину отказа не положено), какие мучительные часы раздумий, какая невыносимая тревога - снова на долгие месяцы и на бессонные ночи охватывает свободного и счастливого гражданина Страны Советов!
За что? Почему? Значит - не верят! Значит, где-то и на кого-то я не так поглядел, не то сказал? Значит, в той таинственной комнате, которая называется "Особый отдел" и куда посторонним вход запрещен строжайше, числятся за мною какие-то неведомые мне грехи?!
Ай-яй-яй, как плохо, как тревожно, какая беда! Ибо всякую поездку за границу, даже туристскую, принято у нас рассматривать, прежде всего, как неоспоримое выражение доверия и поощрения.
И вдруг - на тебе! Эти самые, что с "пятым пунктом", эти неравнейшие среди неравных, эти граждане второго сорта хотят, чтоб им дали разрешение уехать в капиталистическую страну Израиль!
И не просто хотят - требуют! И не только требуют - уезжают - сотни, тысячи! Что случилось?! Как могло такое произойти?! Ратуйте, люди добрые!
Неладно что-то в датском королевстве! И уже не по тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу!) Гражданин полоумного мира, Я одними губами кричу: - Распалась связь времен!..
...Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался.
С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались, ни много ни мало, ровно сорок лет.
Еще одна из причудливых инверсий судьбы: все эти годы мы жили в одном городе, состояли - до моего исключения - в одной и той же писательской организации, у нас были общие друзья, мы посещали, вероятно, одни и те же вечера и просмотры в Центральном Доме литераторов - и вот поди ж ты - ни разу, ни единого раза не встретились.
А ровно сорок лет тому назад мы - мальчишки - непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете "Пионерская правда".
...В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой, чернилами - дважды в неделю мы читали свои новые стихи (а тогда мы все писали стихи) и, как щенята, с веселой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стертую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение.
И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи - кто же их не пишет в тринадцать-четырнадцать лет?! Но иногда читал и свои рассказы короткие, странные, вызывавшие неизменное одобрение руководителя нашей бригады молодого писателя Исая Рахтанова, автора прекрасной детской книжки "Чин-Чин-Чайнамен и Бонни Сидней".
Однажды Рахтанов сказал:
- С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие в пятницу - мы проведем у него дома. Я рассказывал ему про нашу бригаду и он просил, чтобы я вас к нему привел!..
...Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре, диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах, диковинный человек с серо-зелеными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги, на продавленном диване, задыхался, кашлял, курил - от астмы - вонючий табак "Астматол" и, щурясь, слушал, как мы читаем стихи.
Всего в нашей бригаде было человек пятнадцать, и стихи мы читали по кругу, каждый по два стихотворения.
Багрицкий слушал очень внимательно, иногда - если строфа или строчка ему нравились - одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос.
Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давно решенное:
- Ладно, спасибо! В следующий раз - в пятницу - будем разбирать то, что вы сегодня читали!..
Он хитро нам подмигнул:
- Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..
Так, неожиданно, мы стали учениками Эдуарда Багрицкого.
Это было и очень почетно, и совсем не так-то легко.
Эдуард Георгиевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст.
Он так и говорил:
- Человек - или поэт или не поэт! И если ты не умеешь писать стихи в тринадцать лет, ты их не научишься писать и в тридцать?..
Как-то раз я принес чрезвычайно дурацкие стихи. Написаны они были в форме письма моему, якобы, родственнику и крупному поэту, проживающему где-то в чужой стране. В этом письме я негодовал по поводу того, что поэт не возвращается домой и утверждал, что когданибудь буду сочинять стихи не хуже, чем он, а может быть, даже и лучше.
Багрицкий рассердился необыкновенно. Он чуть не подпрыгнул на своем продавленном диване, замахал руками и закричал, кашляя и задыхаясь:
- Глупость! Чушь собачья! Ерунда на постном масле! Почему это я когда-нибудь буду писать не хуже, чем он?! Я уже и сейчас пишу в тысячу раз лучше!
- Так ведь это я не про вас, Эдуард Георгиевич, - попытался я оправдаться, - это же я про себя !
И тут Багрицкий сказал удивительные слова. И сказал их уже без крика, а серьезно и негромко:
- Ты поэт. Ты мой поэт. Всякий поэт, который находит своего читателя, становится его поэтом. И все, что ты говоришь, ты говоришь и от моего, читателя, имени... Запомни это хорошенько!
Я запомнил, Эдуард Георгиевич, я не забыл!
...На одном из занятий Володя прочел свой новый рассказ.
Багрицкий одобрительно кивнул:
- По-моему хорошо! Я, правда, в прозе не очень-то, но по-моему хорошо!
В следующую пятницу, едва мы только расселись, раздался стук в дверь и в комнату Багрицкого быстро и почему-то бочком вошел невысокий человек в очках, с широким и веселым лицом.
Багрицкий сказал:
- Познакомьтесь, ребята! Это Исаак Эммануилович Бабель!
Мы восторженно замерли.
Бабель очень уютно примостился на диване, рядом с Багрицким, а Эдуард Георгиевич повелительно сказал Володе:
- Прочти, что ты нам в прошлый раз читал!
Пока Володя, глухо и монотонно, читал свой рассказ, Багрицкий и Рахтанов смотрели на Бабеля, а Бабель слушал, полузакрыв глаза и не шевелясь.
Потом, когда занятия кончились, Бабель увел Володю к себе - они с Багрицким жили в одном доме.
С тех пор, уже отдельно от нас, Володя стал бывать у Бабеля.
А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни.
...И вот, ровно сорок лет спустя, мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас - пьем, едим, беседуем.
Володя, все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, ставший кряжистее и квадратнее, тягучим и веским голосом - от которого у меня сразу же заболела голова - внушает мне:
- Ты же русский поэт, понимаешь?! Русский! Зачем же ты, особенно в последнее время - я слышал твои новые вещи - занимаешься какой-то там еврейской темой?! На кой она тебе сдалась?! Что за дурацкий комплекс неполноценности!
Уже понимая, что за этим последует, я вяло возражаю ему. Я говорю, что комплекс неполноценности тут решительно ни при чем, что сегодня, сейчас, на наших глазах совершается новый Исход, уезжают навсегда тысячи людей, и среди них наши друзья и знакомые, милые нашему сердцу люди - и что остаться к этому равнодушными мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать.