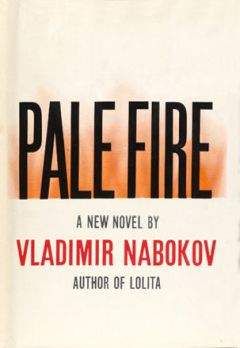Однако! В другом, более позднем случае, мой капризный друг-подкаблучник был все же добрее (смотри примечание к строке 784).
Строка 240: Тот англичанин в Ницце
Морские чайки 1933 года, разумеется, умерли все. Но, дав объявление в «The London Times», можно добыть имя их благотворителя, — если только его не выдумал Шейд. Когда я посетил Ниццу четверть века спустя, англичанина заменил местный житель, бородатый старый бездельник, которого терпели или же поощряли ради привлечения туристов, — он стоял, похожий на статую Верлена, с невзыскательной чайкой, сидевшей в профиль на его свалявшейся шевелюре, или отсыпался под общедоступным солнышком, уютно свернувшись, спиной к колыбельным рокотам моря, на променадной скамье, под которой аккуратно раскладывал на газете разноцветные куски неопределимой снеди — на предмет просушки или ферментации. Вообще англичане здесь попадались очень редко, гораздо более значительное их скопление я обнаружил немного восточнее Ментоны, на набережной, где был воздвигнут в честь королевы Виктории пока еще запеленутый грузный монумент, с трудом обнимаемый бризом, — взамен унесенному немцами. Довольно трогательно топырился под покрывалом ретивый рожок ее ручного единорога.
Строка 246: …родная
Поэт обращается к жене. Посвященный ей пассаж (строки 246–292) полезен в структурном отношении как переход к теме дочери. Я однако же смею утверждать, что когда раздавался вверху над нашими головами топот «родной» Сибил, отчетливый и озлобленный, не все и не всегда бывало так уж «хорошо»!
Строка 247: Сибил
Жена Джона Шейда, рожденная Ирондель (что происходит не от английского обозначения небольшой долины, богатой железной рудой [iron ore], а от французского слова «ласточка»). Она была несколькими месяцами старше него. Сколько я понимаю, корни у нее канадские, как и у бабки Шейда по материнской линии (двоюродной сестры дедушки Сибил, коли я не слишком ошибся).
С первых минут знакомства я старался вести себя в отношении жены моего друга с предельной предупредительностью, и с первых же минут она невзлюбила меня и исполнилась подозрений. Позже мне довелось узнать, что, упоминая меня прилюдно, она обзывала меня «слоновым клещом, оводом королевских размеров, лемурьей глистой, чудовищным паразитом гения». Я ей прощаю — ей и всем остальным.
Строка 270: Ванесса темная
Как это похоже на ученого словесника, — подыскивая ласкательное имя, взгромоздить род бабочек на орфическое божество и поместить их поверх неизбежной аллюзии на Ваномри Эстер! В этой связи из моей памяти выплывает пара строк из одной поэмы Свифта (которого я не могу отыскать в этой лесной глуши):
Когда Ванесса вся в цвету
Летит звездою Аталанты
Что до ванессы-бабочки, она вновь появится в строках 992–995 (к которым смотри примечание). Шейд говорил, бывало, что старо-английское ее наименование — это «The Red Admirable» [Красная Восхитительная], а уж потом оно выродилось в «The Red Admiral» [Красный Адмирал]. Это одна из немногих случайно знакомых мне бабочек. Зембляне зовут ее harvalda [геральдическая], возможно оттого, что легко узнаваемые ее очертания несет герб герцогов Больна. В определенные года, по осени, она довольно часто появлялась в Дворцовых Садах в обществе однодневных ночниц. Мне случалось видеть, как «красная восхитительная» пирует сочащимися сливами, а однажды — и дохлым кроликом. Весьма шаловливое насекомое. Почти домашний ее экземпляр был последним натуральным объектом, показанным мне Джоном Шейдом, когда он шел навстречу своей участи (смотри, смотри теперь же мои примечания к строкам 992–995).
В иных из моих заметок я примечаю свифтовский присвист. Я тоже по природе своей склонен к унынию, — беспокойный, брюзгливый и подозрительный человек, хоть и у меня выпадают минуты ветрености и fou rire.
Строка 275: Мы вместе сорок лет
Джон Шейд и Сибила Ласточкина (смотри примечание к строке 247) поженились в 1919 году, ровно за тридцать лет до того, как король Карл обвенчался с Дизой, герцогиней Больна. С самого начала его правления (1936–1958) представители нации — ловцы лосося, внесоюзные стекольщики, группы военных, встревоженные родственники и в особенности епископ Полюбский, сангвинический и праведный старец, — выбивались из сил в стараниях склонить его к отказу от обильных, но бесплодных наслаждений и к вступлению в брак. Дело шло не о морали, но о престолонаследии. Как и при некоторых его предшественниках, неотесанных олдерконунгах, пылавших страстью к мальчикам, духовенство вежливо игнорировало языческие наклонности молодого холостяка, но желало от него совершения того, что совершил более ранний и еще более несговорчивый Карл: взял себе отпускную ночь и законным образом породил наследника.
Впервые он увидал девятнадцатилетнюю Дизу праздничной ночью 5 июля 1947 года на балу-маскараде в дядюшкином дворце. Она явилась в мужском наряде — мальчик-тиролец с чуть вывернутыми вовнутрь коленками, но храбрый и прелестный; после он повез ее и двух двоюродных братьев (чету гвардейцев, переодетых в цветочниц) кататься по улицам в своем божественном новом авто с откидным верхом — смотреть роскошную иллюминацию по случаю его дня рождения и факельные пляски в парке, и фейерверк, и запрокинутые, побледневшие лица. Почти два года он медлил, но осаждаемый нечеловечески речистыми советниками, в конце концов уступил. В канун венчания он большую часть ночи провел в молитве, замкнувшись один в холодной громаде Онгавского собора. Самоудовлетворенные олдерконунги взирали на него через рубиново-аметистовые окна. Никогда еще не просил он Господа с такою страстью о наставлении и ниспослании силы (смотри далее примечания к строкам 433–434).
После строки 274 находим в черновике неудавшийся приступ:
Люблю я имя «Шейд», а по-испански «Ombre»
Почти что «человек»…
Остается лишь пожалеть, что Шейд не последовал этой теме — и не избавил читателя от дальнейших смутительных интимностей.
Строка 286: реактивный шрам над пламенем заката
И я имел обыкновение привлекать внимание поэта к идиллической красе аэропланов в вечереющем небе. Кто же мог угадать, что в тот самый день (7 июля), когда Шейд записал эту светящуюся строку (последнюю на двадцать третьей карточке), Градус, он же Дегре, перетек из Копенгагена в Париж, завершив тем самым вторую стадию своего зловещего путешествия! «Есть и в Аркадии мне удел», — речет Смерть на кладбищенском памятнике.
Деятельность Градуса в Париже была складно спланирована Тенями. Они вполне справедливо полагали, что не только Одон, но и прежний наш консул в Париже, покойный Освин Бритвит, должен знать, где искать короля. Было решено, что сначала Градусу следует прощупать Бритвита. Последний одиноко жил в своей квартире в Медоне, редко выходя куда-либо за исключением Национальной библиотеки (где читал труды теософов и решал в старых газетах шахматные задачи) и не принимая гостей. Тонкий план Теней породила удача. Сомневаясь, что Градусу достанет умственных способностей и актерских талантов, потребных для исполнения роли рьяного роялиста, Тени сочли, что лучше будет ему выдавать себя за совершенно аполитичного посредника, человека стороннего и маленького, заинтересованного лишь в том, чтобы получить куш за разного рода документы, которые упросили его вывести из Земблы и доставить законным владельцам некие частные лица. Помог случай в очередном его приступе антикарлистских настроений. У одной из пустяшных Теней, которую назовем «бароном А.», имелся тесть, называемый впредь «бароном Б.», — то был безобидный старый чудак, давно оставивший государственную службу и совершенно неспособный осознать кое-какие ренессансные нюансы нового режима. Когда-то он был или думал, что был (даль памяти увеличивает размеры) близким другом покойного министра иностранных дел, отца Освина Бритвита, и потому нетерпеливо предвкушал тот день, когда ему доведется вручить «молодому Освину» (при новом режиме ставшему, как он понимал, не вполне persona grata) связку драгоценных семейных бумаг, на которую барон случаем напал в архивах правительственного ведомства. И вот его известили, что день настал: документы следует незамедлительно доставить в Париж. Ему разрешили также предварить бумаги короткой запиской, гласившей:
«Вот некоторые драгоценные бумаги, принадлежавшие вашей семье. Я не могу найти им лучшего применения, как вручить их сыну великого человека, бывшего моим однокашником в Гельдейберге и наставником на дипломатическом поприще. Verba volant, scripta manent.»