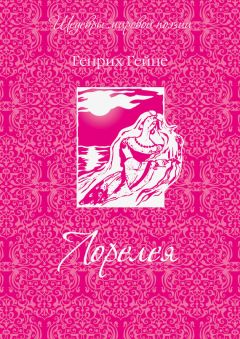"Хорошая примета, когда женщины улыбаются",-- сказал один китайский писатель; того же мнения был и один немецкий писатель, когда он проезжал через южный Тироль, там, где начинается Италия, мимо горы, у подножия которой на невысокой каменной плотине стоял один из домиков, так мило глядевших на нас своими приветливыми галереями и наивною росписью. По одну сторону его стояло большое деревянное распятие; оно служило опорой для молодой виноградной лозы, и как-то жутко-весело было смотреть, как жизнь цепляется за смерть, как сочные зеленые лозы обвивают окровавленное тело и пригвожденные руки и ноги Спасителя. По другую сторону домика находилась круглая голубятня; пернатое население ее реяло вокруг, а один особенно грациозный белый голубь сидел на красной верхушке крыши, которая, подобно скромному каменному венцу над нишей, где таится статуя святой, возвышалась над головой прекрасной пряхи. Она сидела на маленьком
187
балконе и пряла, но не на немецкий лад -- не самопрялкой, а тем стародавним способом, при котором обвитую льном прялку держат под мышкой, а спряденная нить спускается на свободно висящем веретене. Так пряли царские дочери в Греции, так прядут еще и доныне парки и все итальянки. Она пряла и улыбалась, голубь неподвижно сидел над ее головой, а над домом, позади, вздымались высокие горы; солнце освещало их снежные вершины, и они казались суровой стражей великанов со сверкающими шлемами на головах.
Она пряла и улыбалась и, мне кажется, крепко запряла мое сердце, пока экипаж несколько медленнее катился мимо, -- ведь по другую сторону дороги бушевал широким потоком Эйзах. Милые черты не выходили у меня из памяти весь день; всюду видел я прелестное лицо, изваянное, казалось, греческим скульптором из аромата белой розы, такое благоуханно-нежное, такое блаженно-благородное, какое, может быть, снилось ему когда-то в юности, в цветущую весеннюю ночь. Глаза ее, впрочем, не могли бы пригрезиться ни одному греку и совсем не могли бы быть поняты им. Но я увидел и понял их, эти романтические звезды, так волшебно освещавшие античную красоту. Весь день преследовали меня эти глаза, и в следующую ночь они мне приснились. Она сидела, как тогда, и улыбалась, голуби реяли кругом, как ангелы любви, белый голубь над ее головой таинственно пошевеливал крыльями, за нею все величавей и величавей поднимались стражи в шлемах, перед нею все яростнее и неистовее катился поток, виноградные лозы обвивали в судорожном страхе деревянное распятие, оно болезненно колыхалось, раскрывало страждущие глаза и истекало кровью, -- а она пряла и улыбалась, и на нитях ее прялки, подобно пляшущему веретену, висело мое собственное сердце. ГЛАВА XIV
По мере того как солнце все прекраснее и величественнее расцветало в небе, одевая золотыми покровами горы и замки, на сердце у меня становилось все жарче и светлее; снова грудь моя полна была цветами; они пробивались наружу, разрастались высоко над головой, и сквозь цветы моего сердца вновь просвечивала небес
188
ная улыбка прекрасной пряхи. Погруженный в .такие грезы, сам -воплощенная греза, я приехал в Италию, и так как в дороге я слегка забыл, куда еду, то почти испугался, когда на меня взглянули разом все эти большие итальянские глаза, когда пестрая, суетливая итальянская жизнь во плоти устремилась мне навстречу, такая горячая и шумная.
А произошло это в городе Триенте, куда я прибыл в один прекрасный воскресный день ближе к вечеру, когда жара спадает, а итальянцы встают и прогуливаются взад и вперед по улицам. Город, старый и сломленный годами, расположен в широком кольце цветущих зеленых гор, которые, подобно вечно юным богам, взирают сверху на тленные дела людские. Сломленная годами и вся истлевшая, стоит возле него высокая крепость, некогда господствовавшая над городом, -- причудливая постройка причудливой эпохи с вышками, выступами, зубцами и полукруглой башней, где ютятся только совы да австрийские инвалиды. Архитектура самого города так же причудлива, и удивление охватывает при первом взгляде на эти древние дома с их поблекшими фресками, с раскрошившимися статуями святых, башенками, закрытыми балконами, решетчатыми окошками и выступающими вперед фронтонами, покоящимися на серых, старчески дряблых колоннах, которые и сами нуждаются в опоре. Зрелище было бы слишком уж грустное, если бы природа не освежила новою жизнью эти отжившие камни, если бы сладкие виноградные лозы не обвивали эти разрушающиеся колонны тесно и нежно, как юность обвивает старость, и если бы еще более сладостные девичьи лица не выглядывали из сумрачных сводчатых окон, посмеиваясь над приезжим немцем, который, как блуждающий лунатик, пробирается среди цветущих развалин.
Я и в самом деле был как во сне, -- как во сне, когда хочется вспомнить что-то, что уже однажды снилось. Я смотрел то на дома, то на людей; порою я готов был подумать, что видел эти дома когда-то, в их лучшие дни; тогда их красивая роспись еще сверкала красками, золотые украшения на карнизах окон еще не были так черны, и мраморная мадонна с младенцем на руках еще не успела расстаться со своею дивно красивой головой, которую так плебейски обломало наше иконоборческое
189
время. И лица старых женщин были так знакомы мне: казалось, они вырезаны из тех староитальянских картин, которые я видел когда-то мальчиком в Дюссельдорфской галерее. Да и старики итальянцы казались мне давно забытыми знакомцами и своими серьезными глазами смотрели на меня как бы из глубины тысячелетия. Даже в бойких молодых девушках было что-то, как бы умершее тысячу лет тому назад и все-таки вновь вернувшееся к цветущей жизни, так что меня почти охватывал страх, сладостный страх, подобный тому, который я однажды ощутил, когда в полночной тишине прижал свои губы к губам Марии, дивно прекрасной женщины, не имевшей ни одного недостатка, кроме только того, что она была мертва. Но потом я смеялся над собой, и мне начинало казаться, что весь город -- не что иное, как красивая повесть, которую я читал когда-то, которую я сам и сочинил, а теперь я каким-то волшебством втянут в мир моей повести и пугаюсь образов собственной фантазии. Может быть, думалось мне, все это действительно только сон, и я от всего сердца заплатил бы талер за одну только оплеуху, чтобы лишь узнать, бодрствую я или сплю. Малости не хватало, чтобы даже и за более дешевую цену получить желаемое, когда на углу рынка я споткнулся о толстую торговку фруктами. Она, впрочем, удовлетворилась тем, что бросила мне в лицо несколько самых настоящих фиг1, благодаря чему я убедился, что пребываю в самой настоящей действительности, посреди рыночной площади Триента, возле большого фонтана, медные дельфины и тритоны которого извергали приятно освежающие серебристые струи. Слева стоял старый дворец; стены его были расписаны пестрыми аллегорическими фигурами, а на его террасе муштровали для будущих подвигов серых австрийских солдат. Справа стоял домик в прихотливом готическо-ломбардском вкусе, внутри его сладкий, порхающе-легкий девический голос разливался такими бойкими и веселыми трелями, что дряхлые стены дрожали не то от удовольствия, не то от собственной неустойчивости; между тем сверху, из стрельчатого окошка, высовывалась черная с лабиринтообразными завитками комедиантская шевелюра, из
________________________________________
1 Игра слов: Ohrfeige -- оплеуха, Feigen an die Ohren -- букв. фиги в уши (нем.}.
190
под которой выступало худощавое, резко очерченное лицо с одной лишь нарумяненной левой щекой, отчего оно было похоже на пышку, поджаренную только с одной стороны. Прямо же передо мной находился древний-древний собор, не большой, не мрачный, напоминающий веселого старца на склоне лет, приветливого и радушного. ГЛАВА XV
Раздвинув зеленый шелковый занавес, прикрывавший вход в собор, и вступив в храм, я почувствовал телесную и душевную свежесть от приятно веявшей внутри прохлады и от умиротворяюще-магического света, который лился на молящихся из пестро расписанных окон. Тут были по большей части женщины, стоявшие длинными рядами в коленопреклоненных позах на низеньких молитвенных скамеечках. Они молились, тихо шевеля губами, и непрестанно обмахивались большими зелеными веерами, так что слышен был только непрерывный таинственный шепот, видны были только движущиеся веера и колышущиеся вуали. Резкий скрип моих сапог прервал не одну прекрасную молитву, и большие католические глаза посматривали на меня полу любопытно, полублагосклонно, должно быть, советуя мне тоже простереться ниц и предаться душевной сьесте.
Право, такой собор с его сумрачным освещением и веющей прохладою -приятное пристанище, когда снаружи ослепительно светит солнце и томит жара. Об этом не имеют никакого понятия в нашей протестантской Северной Германии, где церкви построены не так комфортабельно, а свет так нагло врывается в нераскрашенные рационалистические окна и где даже прохладные проповеди плохо спасают от жары. Что бы ни говорили, а католицизм -- хорошая религия в летнее время. Хорошо лежать на скамьях такого старого собора; наслаждаешься прохладой молитвенного настроения, священной dolce far niente1, молишься, грезишь и мысленно грешишь; мадонны так всепрощающе кивают из своих ниш, они, чувствуя по-женски, прощают даже тогда, когда их собственные прелестные черты вплетаются в наши гре