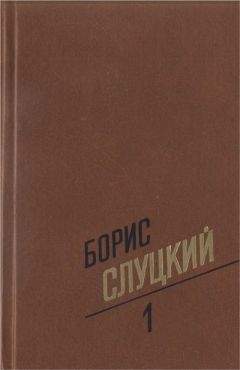«Я переехал из дома писателей…»
Я переехал из дома писателей
В дом рабочих и служащих,
Встающих в семь часов — затемно,
Восемь часов служащих.
В новом доме — куда просторнее.
Больше квартир, больше людей.
И эти люди куда достойнее
В смысле чувств, в смысле идей.
В новом доме раньше встают,
В среднем на два часа, чем в старом,
И любят, когда мясо дают,
И уже забыли про Сталина.
В новом доме мало собак,
Смирных, жирных и важных.
Зато на балконах много рубах
Белых, синих и красных.
Не долгие склоки, а краткие драки
Венчают возникшую неприязнь.
А на сплетни, слухи и враки
Всем жильцам наплевать.
В новом доме больше работниц,
Чем домработниц, и толпы ребят.
Наверно, о них меньше заботятся —
С утра до ночи в глазах рябят.
А дети старого дома, бывало,
Не подходили один к другому.
И потом их было очень мало,
Детей старого дома.
Словно ворот,
Что глотку сжимает,
Этот город
Мне в душу шибает,
Задевает меня, задувает,
Угашает и вновь воскрешает.
Мне не надо
Ни мяса, ни хлеба,
Лишь бы сверху
Московское небо,
Лишь бы были
И справа, и слева
Эти стили,
Что, право, нелепы.
Я не факел,
Я свечка простая,
Я не дуб,
Я травой прорастаю,
Я, как снег,
То пойду, то растаю,
И для всех
Я немногого стою.
Я, продутый твоими ветрами,
Я, омытый дождями твоими,
Я, подъятый тобою, как знамя,
Я, убитый тобою во имя.
Во какое же имя — не знаю.
Называть это имя — не хочешь.
О Москва —
Штыковая, сквозная:
Сквозь меня
Ты, как рана, проходишь.
Домик на окраине.
В стороне
От огней большого города.
Все, что знать занадобилось мне
Относительно тепла и холода,
Снега, ветра, и дождя, и града,
Шедших, дувших, бивших
в этот век.
Сложено за каменной оградой
К сведенью и назиданью всех.
В двери коренастые вхожу.
То́мы голенастые гляжу.
Узнаю с дурацким изумленьем:
В День Победы — дождик был!
Дождик был? А я его — забыл.
Узнаю с дурацким изумленьем,
Что шестнадцатого октября[22]
Сорок первого, плохого года
Были: солнце, ветер и заря,
Утро, вечер и вообще — погода.
Я-то помню — злобу и позор:
Злобу, что зияет до сих пор,
И позор, что этот день заполнил.
Больше ничего я не запомнил.
Незаметно время здесь идет.
Как романы, сводки я листаю.
Достаю пятьдесят третий год[23] —
Про погоду в январе читаю.
Я вставал с утра пораньше — в шесть.
Шел к газетной будке поскорее,
Чтобы фельетоны про евреев
Медленно и вдумчиво прочесть.
Разве нас пургою остановишь?
Что бураны и метели все,
Если трижды имя Рабинович
На одной
сияет полосе?
Месяц март. Умер вождь.
Радио глухими голосами
Голосит: теперь мы сами, сами!
Вёдро было или, скажем, дождь,
Как-то не запомнилось.
Забылось,
Что же было в этот самый день.
Помню только: сердце билось, билось
И передавали бюллетень.
Как романы, сводки я листаю.
Ураганы с вихрями считаю.
Нет, иные вихри нас мели
И другие ураганы мчали,
А погоды мы — не замечали,
До погоды — руки не дошли.
«В звуковое кино не верящие…»
В звуковое кино не верящие
Много лет. Давным-давно
Не немое любим — немеющее,
Вдруг смолкающее
кино.
Обрывается что-то, портится,
Иссякает какой-то запас,
И лицо на экране корчится
И не может крикнуть на вас.
Речи темные, речи ничтожные
Высыхают, словно слеза.
Остаются одни непреложные
Лица, лики, очи, глаза.
Остается одно — выражение
Уст разъятых и глаз в огне,
Впечатляющее, как поражение
В мировой, многолетней войне.
Еврейским хилым детям,
Ученым и очкастым,
Отличным шахматистам,
Посредственным гимнастам —
Советую заняться
Коньками, греблей, боксом,
На ледники подняться,
По травам бегать босым.
Почаще лезьте в драки,
Читайте книг немного,
Зимуйте, словно раки,
Идите с веком в ногу,
Не лезьте из шеренги
И не сбивайте вех.
Ведь он еще не кончился,
Двадцатый страшный век.
«Романы из школьной программы…»
Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.
Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я всё-таки в сердце храню.
Не молью побитая совесть,
А Пушкина твердая повесть
И Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз.
А если я струсил и сдался,
А если пошел на обман,
Я, значит, не крепко держался
За старый и добрый роман.
Вы родина самым безродным,
Вы самым бездомным нора,
И вашим листкам благородным
Кричу троекратно «ура!».
С пролога и до эпилога
Вы мне и нора и берлога,
И кроме старинных томов
Иных мне не надо домов.
Малявинские[24] бабы уплотняют
Борисова-Мусатова
усадьбы.
Им дела нет, что их создатель
Сбежал от уплотнений за границу.
Вот в чем самодвижение искусства!
Художники от слова «худо»
Сюда затешутся едва ли:
Не станут жить на том верху-то,
Не будут стыть — вот здесь, в подвале.
Художники от слова «скверно»
Живут вольготно и просторно.
И пылесосами, наверно,
Вытягивают пыль упорно.
Но я всегда приспособляюсь,
Везде устроюсь расчудесно —
В подвалах лучших я валяюсь,
Где сыро, холодно и тесно.
Там свет небесный редко брезжит,
Там с потолка нередко каплет,
Но золотые руки режут
Меня из пористого камня.
«Я в первый раз увидел МХАТ…»
Я в первый раз увидел МХАТ
На Выборгской стороне,
И он понравился мне.
Какой-то клуб. Народный дом.
Входной билет достал с трудом.
Мне было шестнадцать лет.
«Дни Турбиных»[25] шли в тот день
Зал был битком набит:
Рабочие наблюдали быт
И нравы недавних господ.
Сидели, дыхание затая,
И с ними вместе я.
Ежели белый офицер
Белый гимн запевал —
Зал такт ногой отбивал.
Черная кость, красная кровь
Сочувствовали белой кости
Не с тем, чтоб вечерок провести
Нет, черная кость и белая кость
Красная и голубая кровь
Переживали вновь
Общелюдскую суть свою.
Я понял, какие клейма класть
Искусство имеет власть.
Хорошо или плохо,
Если стукнуло сорок,
Если старость скрипит
Потихоньку в рессорах,
Если чаще
Хватаешься за тормоза.
Сорок лет — это как?
Против мы или за?
Будь я, скажем, орлом
Этих лет или старше,
Это было б начало
Орлиного стажа.
Если б я червяком
По земле извивался,
Сорок раз бы я гибнул
И снова рождался.
Я не гордый орел
И не червь придорожный,
Я прописан не в небе,
Не в недрах земли,
Я — москвич!
Да! Решительный и осторожный,
Весь в дорожной пыли,
Но и в звездной пыли.
Так орлов не стреляли,
Так червей не топтали
То холодной войной,
То войною тотальной,
Как стреляли,
А также топтали меня.
Но сквозь трубную медь,
Меж воды и огня.
Где прополз, где пронесся,
А где грудью пробился,
Где огнем пропылал,
Где водой просочился
И живу!
Не бытую, и не существую,
А живу!
«От копеечной свечи Москва сгорела…»