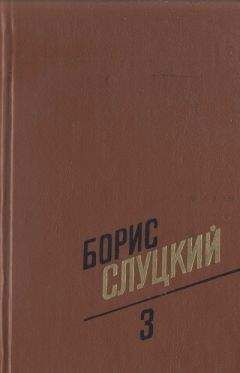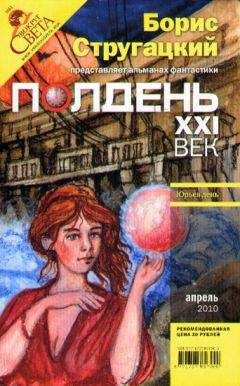СЛОВО «ЗАПАДНИК» и СЛОВО «СЛАВЯНОФИЛ»
В слове «западник» корень и окончанье
славянофильствуют до отчаянья.
А на слове «славянофил»
запад плющ словесный навил.
В общем, логике не уступает,
поддаваться не хочет язык,
как захочет, так поступает,
совершает так, как привык.
Остроумие вымерло прежде ума
и растаяло, словно зима
с легким звоном сосулек
и колкостью льдинок.
Время выиграло без труда поединок.
Прохудились, как шубы на рыбьем меху,
и остроты, гонимые наверху,
и ценимые в самых низах анекдоты,
развивавшие в лицах все те же остроты.
Видно, рвется, где тонко,
и тупится, где
острие заостреннее, чем везде.
Что легко, как сухая соломка,
как сухая соломка, и ломко.
Отсмеявшись, мы жаждем иных остряков,
а покуда внимаем тому, кто толков,
основателен, позитивен, разумен
и умен,
даже если и не остроумен.
«И лучшие, и худшие, и средние…»
И лучшие, и худшие, и средние —
весь корпус человечества, объем —
имели осязание и зрение,
владели слухом и чутьем.
Одни и те же слышали сигналы,
одну и ту же чуяли беду.
Так неужели чувства им солгали,
заставили сплясать под ту дуду?
Нет, взгляд был верен, слух был точен,
век в знании и рвении возрос,
и человек был весь сосредоточен
на том, чтоб главный разрешить вопрос.
Нет, воли, кроме доброй, вовсе не было,
предупреждений вой ревел в ушах.
Но, не спуская взоры с неба,
мир все же в бездну свой направил шаг.
«Хватит ли до смерти? Хватит…»
Хватит ли до смерти? Хватит.
Хватит на мой век с верхо́м.
И когда морозец схватит
зеркало воды ледком,
я уйду под лед, бедняга,
век за мною — не нырнет,
и хладеющая влага
надо мною льды сомкнет.
Я уйду, а век продлится
после кратких лет моих.
Каплею успев пролиться,
каплей высохну я вмиг.
Не дошедший до преддверья
века нового — уйду,
не узнавши, не проверя
его счастье и беду.
«Все калечится и увечится…»
Все калечится и увечится.
Вымогает сон и покой.
Вся надежда — на человечество.
На себя — уже никакой.
Вся надежда — на ход исторический,
поступательный. На прогресс.
И в надежде той истерической
ты теряешь к себе интерес.
Вся надежда — на надежду,
что еще дотлевает в тебе.
Уголек, что еще не погас,
закрывающиеся вежды
раскрывает в последний раз.
«Совесть ночью, во время бессонницы…»
Совесть ночью, во время бессонницы,
несомненно, изобретена.
Потому что с собой поссориться
можно только в ночи без сна.
Потому что ломается спица
у той пряхи, что вяжет судьбу.
Потому что, когда не спится,
и в душе находишь судью.
Неустройство сосудов, сумятица жил,
грусть в душе, меланхолия в сердце тупая.
В общем:
— Вы в этом веке уже старожил, —
говорит новосел, место мне уступая.
Уступает мне место народ молодой,
ожидая, когда же свое уступлю я —
не в метро! За живой и за мертвой водой
место в очереди уступлю чистоплюю,
у которого руки чисты и душа
словно щеткой зубной до сиянья надраена.
Ожидает, когда я уйду.
Не спеша
ожидает,
как водопровода — окраина.
В общем, это закон и — люблю — не люблю —
все под ним, по истории и наблюдениям.
Терпеливо слежу за насмешливым бдением.
Терпеливо дыханье в затылок терплю.
Старые обиды не стареют.
Ты стареешь, но обида — нет.
Снова потихоньку душу греет,
полегоньку, словно звездный свет.
Не сноситься ей, не прохудиться!
До конца судиться и рядиться,
до смерти качать права
она,
старая и слабая,
должна.
Не подвержена нисколько хворости
и не уставая от труда,
не имея паспортного возраста,
старая обида — молода!
Кулаком слабеющим машу, —
верно, недругу не быть им биту, —
восхищенные стихи пишу
про свою любимую обиду.
Уже давным-давно,
в сраженье ежедневном,
то радостном, то гневном,
мы были заодно:
делили пополам
все то, что получали,
удачи и печали,
прогулки по полям,
победы, и посты,
и зорьку, что алела.
Как у меня болело,
когда болела ты!
Все на двоих! Обид —
и тех мы не дробили.
Меня словно избили,
когда тебя знобит.
Смущаясь и любя,
без суеты и фальши,
я вновь зову тебя:
пойдем со мною дальше!
«Как бы чувства ни были пылки…»
Как бы чувства ни были пылки,
как бы ни были долги пути,
очень тесно стоят могилки,
очень трудно меж них пройти.
Территория мертвого у́же,
чем живой рассчитывать мог,
и особенно — если лужи
и тропинка ползет между ног.
К точке сведены все пространства.
Все объемы в яму вошли.
Охлаждаются жаркие страсти
от сырой и холодной земли.
Это не беда.
А что беда?
Новостей не будет. Никогда.
И плохих не будет?
И плохих.
Никогда не будет. Никаких.
«Век вступает в последнюю четверть…»
Век вступает в последнюю четверть.
Очень мало непройденных вех.
Двадцать три приблизительно через
года — следующий век.
Наш состарился так незаметно,
юность века настолько близка!
Между тем ему на замену
подступают иные века.
Между первым его и последним
годом
жизни моей весь объем.
Шел я с ним — сперва дождиком летним,
а потом и осенним дождем.
Скоро выпаду снегом, снегом
вместе с ним, двадцатым веком.
За порог его не перейду,
и заглядывать дальше не стану,
и в его сплоченном ряду
прошагаю, пока не устану,
и в каком-нибудь энском году
на ходу
упаду.
«Говорят, что попусту прошла…»
Говорят, что попусту прошла
жизнь: неинтересно и напрасно.
Но задумываться так опасно.
Надо прежде завершить дела.
Только тот, кто сделал все, что смог,
завершил, поставил точку,
может в углышке листочка
сосчитать и подвести итог:
был широк, а может быть, и тесен
мир, что ты усердно создавал,
и напрасен или интересен
дней грохочущий обвал,
и пассивно или же активно
жизнь прошла, —
можно взвесить будет объективно
на листочке, на краю стола.
На краю стола и на краю
жизни я охотно осознаю
то, чего пока еще не знаю:
жизнь мою.
Девятнадцатый век отдаленнее
и в теории
и на практике
и Танзании,
и Японии,
и Австралии,
и Антарктики.
Непонятнее восемнадцатого
и таинственнее семнадцатого.
Девятнадцатый век — исключение,
и к нему я питаю влечение.
О, пускай исполненье отложено
им замысленных помыслов всех!
Очень много было хорошего.
Очень много поставлено вех.
Словно бы впервые одумалось
и, одумавшись, призадумалось,
оценило свое калечество
разнесчастное человечество.
И с внимательностью осторожною
пожалело впервые оно
женщину,
на железнодорожное
с горя
бросившуюся
полотно.
Гекатомбы и армагеддоны
до и после,
но только тогда
индивидуального стона
общая
не глушила беда.
До и после
от славы шалели,
от великих пьянели идей.
В девятнадцатом веке жалели,
просто так — жалели людей.
Может, это и не годится
и в распыл пойдет,
и в разлом.
Может, это еще пригодится
в двадцать первом и в двадцать втором.