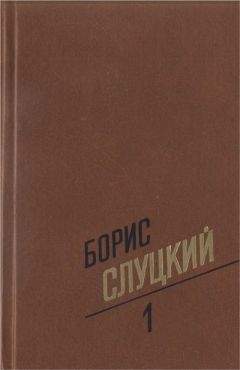«Как выглядела королева Лир…»
Как выглядела королева Лир,
по документам Королёва Лира,
в двадцатые — красавица, кумир,
в конце тридцатых — дребезги кумира?
Как серебрилась эта седина,
как набухали этих ног отеки,
когда явилась среди нас она,
размазав по душе кровоподтеки.
К трагедии приписан акт шестой:
дожитие. Не жизнь, а что-то вроде.
С улыбочкой, жестокой и простой,
она встает при всем честном народе.
У ней дела! У ней внучата есть.
Она за всю Европу отвечала.
Теперь ее величие и честь —
тянуть все то, что начато сначала.
Все дочери погибли. Но внучат
она не даст! Упрямо возражает!
Не славы чад, а просто кухни чад
и прачечной седины окружает.
Предательницы дочери и та,
что от нее тогда не отказалась,
погибли. Не осталось ни черта,
ни черточки единой не осталось.
Пал занавес, и публика ушла.
Не ведая и не подозревая,
что жизнь еще не вовсе отошла,
большая, трудовая, горевая.
Что у внучат экзамены, что им
ботинок надо, счастья надо вдоволь.
Какой пружиной живы эти вдовы!
Какие мы трагедии таим!
«Темницы двадцатого века…»
Темницы двадцатого века
с их лампами в тыщу свечей
для бедных очей человека,
для светолюбивых очей.
Темницы с горючею лампой,
истории тормоза,
со светом, как будто бы лапой
царапающим глаза.
И эти темницы, считают,
похуже, чем древние те,
и в этих темницах мечтают
о тьме,
о сплошной темноте.
«Я рос и вырос в странной стране…»
Я рос и вырос в странной стране,
в какой-то всеобщей начальной школе,
всех принудительно учили грамоте,
а после некогда было читать.
Учили грамоте и политграмоте
по самым лучшим в мире учебникам,
учили даже философии,
но не давали философствовать.
Мы с детства были подготовлены
хоть к руководству революцией,
хоть к управленью государством.
Поэтому места, очищенные
одним правителем,
немедля и без трения
спокойно замещались заместителем.
Поэтому 37-й
не только подготовил 41-й,
но 45-му не помешал.
Война была выиграна,
победа была за нами.
Он вынес, выдюжил, выдержал,
державший нас волосок.
Блистая погонами новыми
и вытертыми штанами,
пришли мы в пол-Европы
и Азии добрый кусок.
Мы выспались, мы побрились,
мы сапоги надраили,
мы обсуждаем приметы,
лежа на блиндаже.
Псы, которые выли,
вороны, которые граяли,
кошки, которые бегали,
нам не грозят уже.
Выходит, что все приметы,
реявшие, как знамя,
грозившие, как кометы,
занесены не над нами.
И мы, собравшись в кучку,
наводим тень на плетень,
что солнце село не в тучку
и будет добрый день.
Даже Новый завет обветшал.
Ветхий — он, одним словом, ветхий.
Нужен свежий листок на ветке,
юный голос, что нам бы вещал.
Закрывается первая книга,
дочитали ее до конца.
У какого найти мудреца
ту, вторую и новую книгу.
Где толковник,
где тот разумник,
где тот старший и младший пророк,
кто собрал бы раздетых, разутых,
объяснил бы про хлеб и про рок.
Сухопарый, плохо одетый,
он, по-видимому, вроде студента,
напряжен, застенчив, небрит,
он, наверное, только учится,
диамат и истмат зубрит.
О ему предстоящей участи
бог ему еще не говорит.
Проглядеть его — ох, не хочется.
В людях это — редчайший сорт.
Ведь судьба его, словно летчица,
мировой поставит рекорд.
«Куда-то в детство поезда ушли…»
Куда-то в детство поезда ушли.
На смену самолеты прилетели
и так же отрывают от земли,
как в детстве выгоняли из постели
и снаряжали в школу, в первый класс.
Новинки техники обстали нас
и долгое теперь — короче все,
все потолки — до неба поднялись,
и пал Жюль Верн, поскольку все пророчества,
все предсказания его — сбылись.
И пал Уэллс, поскольку не фантаст,
а реалист теперь он самый плоский,
и остается только Маяковский,
сопровождает в будущее нас.
Брали карандаш и гнули линию,
чтобы по когтям узнали льва,
или брали кисть и небо синее
мазали, мазнув едва.
Вот какие были, вот какую
линию согнули не спеша,
иногда кукушками кукуя:
сколько лет еще жива душа?
Погибали молодыми,
и во глубине сибирских руд
все равно не расплывался в дыме
крематория их вклад, их труд.
То ли кровь другая, то ли кости?
Что-то в них устроено? Едва ли.
Не сгнивали даже на погосте.
Тлели — не перетлевали.
Через сорок лет и сорок пять
их друзей стареющих остатки
переносят бренные останки.
И в Москве они живут опять.
«Писали по-сверхчеловечьи…»
Писали по-сверхчеловечьи,
а жили левача, ловча,
истаивали, как свечи,
но, в общем, смердела свеча.
По-ангельски, по-демонски
жили, не по-людски.
И кончилось это демаски —
ровкой и на куски
разъятием, распадением
под чьей-то сильной рукой.
И, что представлялось гением,
оказалось трухой.
«Я помню твой жестоковыйный норов…»
Я помню твой жестоковыйный норов
и среди многих разговоров
один. По Харькову мы шли вдвоем.
Молчали. Каждый о своем.
Ты думал и продумал. И с усмешкой
сказал мне: — Погоди, помешкай,
поэт с такой фамилией, на «цкий»,
как у тебя, немыслим. — Словно кий
держа в руке, загнал навеки в лузу
меня. Я верил гению и вкусу.
Да, Пушкин был на «ин», а Блок — на «ок».
На «цкий» я вспомнить никого не мог.
Нет, смог! Я рот раскрыл. — Молчи, «цкий».
— Нет, не смолчу. Фамилия Кульчицкий,
как и моя, кончается на «цкий»!
Я первый раз на друга поднял кий.
Я поднял руку на вождя, на бога,
учителя, который мне так много
дал, объяснял, помогал
и очень редко мною помыкал.
Вождь был как вождь. Бог был такой, как
нужно.
Он в плечи голову втянул натужно.
Ту голову ударил бумеранг.
Оборонись, не пощадил я ран.
— Тебе куда? Сюда? А мне — туда.
Я шел один и думал, что беда
пришла. Но не искал лекарства
от гнева божьего. Республиканства,
свободолюбия сладчайший грех
мне показался слаще качеств всех.
«Я с той старухой хладновежлив был…»
Я с той старухой хладновежлив был:
знал недостатки, уважал достоинства,
особенно, спокойное достоинство,
морозный, ледовитый пыл.
Республиканец с молодых зубов,
не принимал я это королевствование:
осанку, ореол и шествование,—
весь мир господ и, стало быть, рабов.
В ее каморке оседала лесть,
как пепел после долгого пожара.
С каким значеньем руку мне пожала.
И я уразумел: тесть любит лесть.
Вселенная, которую с трудом
вернул я в хаос: с муками и болью,
здесь сызнова была сырьем, рудой
для пьедестала. И того не более.
А может быть, я в чем-то и неправ:
в эпоху понижения значения
людей
она вручила назначение
самой себе
и выбрала из прав
важнейшие,
те, что сама хотела,
какая челядь как бы не тряслась,
какая чернь при этом не свистела,
не гневалась какая власть.
Я путь не принимал, но это был
путь. При почти всеобщем бездорожьи
он был оплачен многого дороже.
И я ценил холодный грустный пыл.