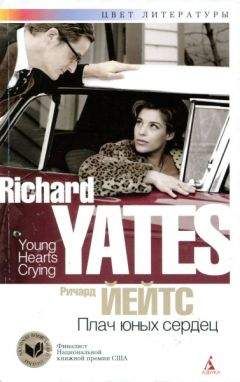Закон, общественного мненья глас
И идеал святой и целокупный;
Пред ним любой мятеж, как искра, гас
И таял всякий умысел преступный.
Мы верили так чисто и светло,
Что на земле давно издохло зло.
Змей обеззубел, и утих раздор,
Лишь на парадах армия блистала;
Что из того, что пушки до сих пор
Не все перековали на орала?
Ведь пороху понюхать — не в укор
На празднике, одних лишь горнов мало,
Чтобы поднять в бойцах гвардейский дух
И чтоб их кони не ловили мух.
И вдруг — драконы снов средь бела дня
Воскресли; бред Гоморры и Содома
Вернулся. Может спьяну солдатня
Убить чужую мать у двери дома
И запросто уйти, оцепеня
Округу ужасом. Вот до чего мы
Дофилософствовались, вот каков
Наш мир — клубок дерущихся хорьков.
Кто понимает знаменья судьбы
И шарлатанским сказкам верит средне,
Прельщающим неразвитые лбы,
Кто сознает: чем памятник победней,
Тем обреченней слому, сколько бы
Сил и души не вбил ты в эти бредни,-
Тот в мире одиноче ветра; нет
Ему ни поражений, ни побед.
Так в чем же утешения залог?
Мы любим только то, что эфемерно,-
Что к этому добавить? Кто бы мог
Подумать, что в округе суеверной
Найдется демон или дурачок,
Способный в ярости неимоверной
Акрополь запалить, разграбить сад,
Сбыть по дешевке золотых цикад?
II
Когда легкие шарфы, мерцая, взлетали в руках
Китайских плясуний, которых Лой Фуллер вела за собой,
И быстрым вихрем кружился их хоровод,
Казалось: воздушный дракон на мощных крылах,
Спустившись с небес, увлек их в пляс круговой,-
Вот так и Платонов Год
Вышвыривает новое зло и добро за круг
И старое втягивает в свой яростный вихрь;
Все люди — танцоры, и танец их
Идет по кругу под гонга варварский стук.
III
Какой-то лирик с лебедем сравнил
Свой одинокий дух; не вижу в том
Печали никакой;
Когда б он мог с последней дрожью жил
Узреть на зыбком зеркале речном
Пернатый образ свой,-
Шутя плеснуть волной,
Напыжить гордо грудь,
И крыльями взмахнуть,
И с гулким ветром кануть в мрак ночной.
Всю жизнь мы ходим по чужим путям,
И лабиринт, которым мы бредем,
Чудовищно извит;
Один философ утверждал, что там,
Где плоть и скорбь спадут, мы обретем
Свой изначальный вид;
О, если б смертный мог
И след земной стереть -
Познав такую смерть,
Как он блаженно был бы одинок!
Взмывает лебедь в пустоту небес;
От этих мыслей — хоть в петлю, хоть в крик;
И хочется проклясть
Свой труд во умножение словес,
Спалить и жизнь, и этот черновик.
Да, мы мечтали всласть
Избавить мир от бед,
Искоренить в нем зло;
Что было, то прошло;
Рехнуться можно, вспомнив этот бред.
IV
Мы, чуравшиеся лжи,
Мы, болтавшие о чести,
Как хорьки, теперь визжим,
Зубы скалим хуже бестий.
V
Высмеем гордецов,
Строивших башню из грез,
Чтобы на веки веков
В мире воздвигся Колосс,-
Шквал его сгреб и унес.
Высмеем мудрецов,
Портивших зрение за
Чтеньем громоздких томов:
Если б не эта гроза,
Кто б из них поднял глаза?
Высмеем добряков,
Тех, кто восславить дерзнул
Братство и звал земляков
К радости. Ветер подул,
Где они все? Караул!
Высмеем, так уж и быть,
Вечных насмешников зуд -
Тех, кто вольны рассмешить,
Но никого не спасут;
Каждый из нас — только шут.
VI
Буйство мчит по дорогам, буйство правит конями,
Некоторые — в гирляндах на разметавшихся гривах -
Всадниц несут прельстивых, всхрапывают и косят,
Мчатся и исчезают, рассеиваясь между холмами,
Но зло поднимает голову и вслушивается в перерывах.
Дочери Иродиады снова скачут назад.
Внезапный вихорь пыли взметнется — и прогрохочет
Эхо копыт — и снова клубящимся диким роем
В хаосе ветра слепого они пролетают вскачь;
И стоит руке безумной коснуться всадницы ночи,
Как все разражаются смехом или сердитым воем -
Что на кого накатит, ибо сброд их незряч.
И вот утихает ветер, и пыль оседает следом,
И на скакуне последнем, взгляд бессмысленный вперя
Из-под соломенной челки в неразличимую тьму,
Проносится Роберт Артисон, прельстивый и наглый демон,
Кому влюбленная леди носила павлиньи перья
И петушиные гребни крошила в жертву ему.
Внезапный гром: сверкающие крылья
Сбивают деву с ног — прижата грудь
К груди пернатой — тщетны все усилья
От лона птичьи лапы оттолкнуть.
Как бедрам ослабевшим не поддаться
Крылатой буре, их настигшей вдруг?
Как телу в тростнике не отозваться
На сердца бьющегося гулкий стук?
В миг содроганья страстного зачаты
Пожар на стогнах, башен сокрушенье
И смерть Ахилла.
Дивным гостем в плен
Захвачена, ужель не поняла ты
Дарованного в Мощи Откровенья, -
Когда он соскользнул с твоих колен?
"ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА" (1933)
РАЗГОВОР ПОЭТА С ЕГО ДУШОЙ
I
Душа. Вступи в потемки лестницы крутой,
Сосредоточься на кружном подъеме,
Отринь все мысли суетные, кроме
Стремленья к звездной вышине слепой,
К той черной пропасти над головой,
Откуда свет раздробленный струится
Сквозь древние щербатые бойницы.
Как разграничить душу с темнотой?
Поэт. Меч рода Сато — на моих коленях;
Сверкает зеркалом его клинок,
Не затупился он и не поблек,
Хранимый, как святыня, в поколеньях.
Цветами вышитый старинный шелк,
Обернутый вкруг деревянных ножен,
Потерся, выцвел — но доныне должен
Он красоте служить — и помнит долг.
Душа. К чему под старость символом любви
И символом войны тревожить память?
Воображеньем яви не поправить,
Блужданья тщетных помыслов прерви;
Знай, только эта ночь без пробужденья,
Где все земное канет без следа,
Могла б тебя избавить навсегда
От преступлений смерти и рожденья.
Поэт. Меч, выкованный пять веков назад
Рукой Монташиги, и шелк узорный,
Обрывок платья барыни придворной,
Пурпуровый, как сердце и закат,-
Я объявляю символами дня,
Наперекор эмблеме башни черной,
И жизни требую себе повторной,
Как требует поживы солдатня.
Душа. В бессрочной тьме, в блаженной той ночи,
Такая полнота объемлет разум,
Что глохнет, слепнет и немеет разом
Сознанье, не умея отличить
"Где" от «когда», начало от конца -
И в эмпиреи, так сказать, взлетает!
Лишь мертвые блаженство обретают;
Но мысль об этом тяжелей свинца.
II
Поэт. Слеп человек, а жажда жить сильна.
И почему б из лужи не напиться?
И почему бы мне не воплотиться
Еще хоть раз — чтоб испытать сполна
Все, с самого начала: детский ужас
Беспомощности, едкий вкус обид,
Взросленья муки, отроческий стыд,
Подростка мнительного неуклюжесть?
А взрослый в окружении врагов? -
Куда бежать от взоров их брезгливых,
Кривых зеркал, холодных и глумливых?
Как не уверовать в конце концов,
Что это пугало — ты сам и есть
В своем убогом истинном обличье?
Как отличить увечье от величья,
Сквозь оргию ветров расслышать весть?
Согласен пережить все это снова
И снова окунуться с головой
В ту, полную лягушачьей икрой
Канаву, где слепой гвоздит слепого,
И даже в ту, мутнейшую из всех,
Канаву расточенья и банкротства,
Где молится гордячке сумасбродство,
Бог весть каких ища себе утех.
Я мог бы до истоков проследить
Свои поступки, мысли, заблужденья;
Без криводушья и предубежденья
Изведать все, — чтоб все себе простить!
И жалкого раскаянья взамен
Такая радость в сердце поселится,
Что можно петь, плясать и веселиться;
Блаженна жизнь, — и мир благословен.
I
Священна эта земля
И древний над ней дозор;
Бурлящей крови напор
Поставил башню стоймя
Над грудой ветхих лачуг -
Как средоточье и связь
Дремотных родов. Смеясь,
Я символ мощи воздвиг
Над вялым гулом молвы