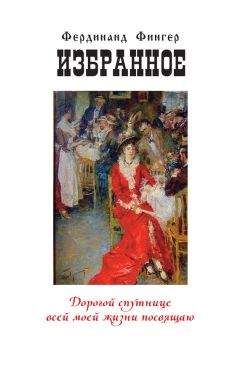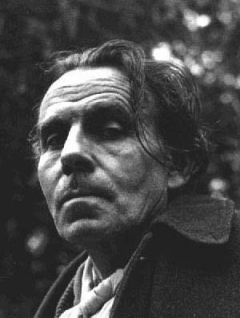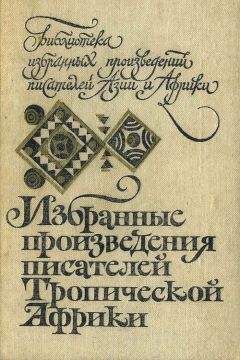Всю жизнь я положил, чтобы внизу не шевелились,
А покушались «по Ежову» миллионов шестьдесят,
Как я им приказал – они угомонились,
Лежат в земле, лежат и не сопят.
Эх, что-то много мыслей появилось,
У юноши из Гори в голове сейчас,
Ну, надо выпить и соснуть, чтоб не крутились,
По-моему, и время поваляться – самый раз.
Графинчики с вином такого цвета,
Что крови красной и не обогнать,
И на замках закрыты горлышки при этом,
А ключики от них на поясе, ну, благодать.
А дверь мою так просто не откроешь,
Я рычагом подвину – шириною в щель она,
Но от лица Поскребышева взвоешь,
Хоть в пол-лица, но все же эта рожа мне видна.
Живу я просто, как бы не с чинами,
Ну, пару мягких горских сапогов имею я,
Да кителек Генералиссимуса с орденами,
Что полунищий, в этом не моя вина.
Не виноват я в том, когда куда-то собираюсь,
На километры вдруг пугающая пустота,
Хочу кого-нибудь увидеть из охраны – удивляюсь,
Охрана исчезает как бы в никуда.
Ну, хрен с охраной, а враги-то удивили,
Сперва друзья, а вдруг к врагам причислили себя,
Перед расстрелом на коленях из тюрьмы просили,
Чтоб отпустил и к женам, и детишкам – нет, нельзя.
Старею, а врагов не убавляется, наоборот, дела!
Сто сорок миллионов подозрительными стали.
Ведь, если всех убрать, а где «кинзмараули», «хванчкара»,
И в трубку табачка, чтоб Сталину достали?
Эх, хорошо поуправлять страной, да навсегда,
Где только дураки – один я только умный,
Ох, хорошо бы – только так нельзя,
Как без портретов миллионных толп, ведь я не полоумный.
Ой, старость, что-то ты пригрелась у меня,
И не спросила разрешенья аксакала,
А ну, смотри, укорочу тебе язык «П. да»!
Чтоб никогда ко мне не приставала.
На праздниках стою на мавзолее,
Среди соратников – у некоторых жены в лагерях,
Внизу толпы людей – страх, надо быть смелее,
Хотя всех место по заслугам в лагерных печах.
Ну, посмотреть внимательно на эти рожи,
Хрущева, Молотова, Берии, Булганина – подряд,
Стоят, прикидываясь, на друзей похожи,
А посмотри в глаза, хитрят, все, сволочи, хитрят.
Ну ладно, рядом хоть стоят и под присмотром.
А что с английской и американской кутерьмой?
На Черчилля и Рузвельта внимательно посмотришь —
Ну, хоть ты смейся, хочешь – волком вой.
Ну, ничего, сам разберусь я с этой голью,
Затею третью мировую – благодать!
Все Черчилли и Рузвельты, и всякие Де Голли
На четвереньках приползут мне сапоги лизать.
Петлю бы им накинуть, этим западным заразам,
Да привязать к столбу, как делают псари.
А бомбы атомные, водородные – новейшая проказа!
Нет, делай дело обстоятельно и ничего не просмотри.
Не пьется и не естся – просто я не знаю,
А о других делах я уж совсем не говорю,
Как хорошо, что дело новенькое затеваю,
Я с медициной, профессурою поговорю.
Как раньше ладненько дела все удавались,
Как клеветали люди сами на себя,
И клеветали так, что досыта наклеветались,
На всех вокруг – один не оклеветанный остался я.
«Учиться, и учиться, и учиться» – это ясно,
А дальше Ленина цитировать не буду, мудака,
Я дело о врачах раздую, ну, и все прекрасно,
Затем и Берию, и Молотова, и Хрущева в лагеря.
Ведь я же Бог – владелец полумира, ведь едва ли —
Лишь пальцем щелкну, не поднимут головы,
Но что-то чувствую себя неважно, генацвале,
То голова болит, то аппетита нет, то жмут штаны.
Ведь знаю я себя – не злой, друзей когорта,
Добра хочу своей стране – не как другие зла,
Но почему-то все меня боятся хуже черта,
Боятся посмотреть в мои глаза издалека.
Для вашего же счастья в никуда отправил я,
Наверно, сорок миллионов, а теперь уж прах и кости,
Они ведь хлеб ваш жрали – так нельзя,
Пусть там едят говно, а не жиреют за столом, как гости.
Чего-то жизнью я своею не доволен все равно,
С литературою в стране не все в порядке,
И этих тощих балерин не видел я давно,
Да и с финансами нехорошо – воруют без оглядки.
Хожу по комнате в досаде, даже и не прикорнул.
А как мой лучший друг и брат меня обидел?
Так со спины меня ножом полосонул,
Добрейшего порядочного человека не увидел.
Годами гнал составами добро к нему —
Пшеницу, уголь, лес – всего и не увидеть,
А сталь для танков, пушек? И зачем, и почему?
Все делал задарма, чтоб друга не обидеть.
Ведь не могу я к Богу обратиться, помоги,
На старости все надо делать вновь, как раньше,
Из каждой щелки-трещинки глядят враги,
А ближних много, знающих куда подальше.
И сколько сделал я полезного для своего народа,
Собор Христа Спасителя я вовремя взорвал,
Волго-Донской канал построил мне Ягода,
Я только сорок тысяч человек в статистике недосчитал.
На труд полезный я народишко настроил,
Урановые рудники мне «зек» поднял,
Дорогу Салехард-Игарку я построил,
Космополитов омерзительную кучу в гроб загнал.
Каналы новые построил, как Суэц, не хуже,
Метро я под Москвою прорубил навек,
Война недорого мне обошлась, могло быть хуже,
Всего лишь в тридцать миллионов человек.
Хотел взорвать Собор Блаженного – но помешали,
Зато я кулаков всех истребил как класс.
А то, что двадцать миллионов оказалось в яме,
Случается, «когда не бровь, а в глаз».
А лагеря устроил только лишь для блага,
Страна советская передовою быть должна,
Враги пусть поработают – там не нужна отвага,
Ну как-нибудь дождутся их и дети, и жена.
А на войне – так небольшие там потери,
Ведь немец – он цивилизован, не отнять,
А Ванька – он простак, не улизнет из двери,
И тридцать миллионов можно и отдать.
Полжизни я, добрейший человек на свете,
Ночами пьянствовал с друзьями, матюгал,
Не оценили – вижу только ложь, потоки лести.
А честных и порядочных людей я не встречал.
Затею, может быть, сюрпризик посильней,
Я третью мировую – «Нате вам, покушай!»
А то зажрались в демократии своей,
Жестокий Сталин – он тиран, ты Сталина не слушай.
А мысли крутятся, как белки в колесе,
И вдруг сквозь щель в двери – вот он, «Кондратий».
Удар, еще удар по бедной голове,
Лежу, хриплю, ну, помогите, Сестры! Братья!
Где те полмира, чем владел, «ебена мать»,
Уж полчаса лежу – хриплю в удушье.
Все, подлецы, оставили меня сдыхать.
Быть может, Господа позвать, так будет лучше.
Зову, хриплю, но не приходит, почему-то Он.
Зато я снизу-вверх вдруг ясно вижу,
Удар ботинком Берии по голове,
И больше ничего теперь не слышу.
Полвека как прошло – годов не сосчитать.
А тень зловещая все бродит по дорогам.
Но вроде ей России и не напугать.
Он у Кремлевской там лежит, и нету рядом Бога.
Моя мечта – как предсказал Мессия,
Чтоб Бог вернулся, наконец, и навсегда
В мою любимую многострадальную Россию,
И беды все ее не повторились никогда.
01.04.2009
Ну что сказать про жизнь мою,
Бывала и спокойна, и опасна,
Бывала и атакой смертною в бою,
Бывала отступлением напрасным.
То, закусив стальные удила
И пеной брызгая, стремилась к цели,
А иногда стремглав бежала вспять она,
Оказываясь у обвала на пределе.
Частенько шла на подлый компромисс,
С людьми плохими заключала сделку,
А иногда в стыде проваливалась вниз
И выглядела, как дешевая подделка.
Бывало, иногда осиливала трудную дорогу,
Была чиста, прозрачна, как слеза,
И очищалась в раскаянье, слава Богу,
А иногда была в нечестности черна.
Меня она бросала вверх и вниз,
Тонула в океане страсти,
То птицей легкою летела ввысь,
То камнем падала в ужасные напасти.
Но, к счастью, я чужого не украл,
Друзей не предавал, не убивал, считал единым Бога,
А в общем, я стыжусь за все мои грехи —
Теперь я это понимаю, стоя у порога.
Мне стыдно пред Хламидою Христа,
Что у Спасителя единственной одеждой было,
Стремление приобретать тщеславило меня,
Какой-то странной манкостью манило.
Я часто мимо правды шел в обход,
Чтоб что-то раздобыть во что бы то ни стало,
Достать и поиметь, а не наоборот,
Как дьявольское наваждение пристало.
Теперь я осознал, что жизнь – написанная Богом повесть,
Я вспомнил, что я к жизни голым подошел,
Что жизнь моя до грамма весит, сколько весит совесть.
И, слава Богу, с помощью его я к этому пришел.
10.10.2009
Я недавно решил, что пойду прогуляться,
На тропинке лесной я побуду один
Тишиною лесной могу наслаждаться
Наконец-то, один, сам себе господин.
Подустал от стихов – отдохнуть бы немножко.
Вот усталости нет – на свободе душа.
Предо мной расстелилась лесная дорожка
В глубину завлекся, в глушь лесную маня.
То малиновый дух, то грибов разноцветье,
Справа-слева как будто дразнили меня.
И восьмого десятка моего лихолеться
Как бы не было – радостно пела душа.