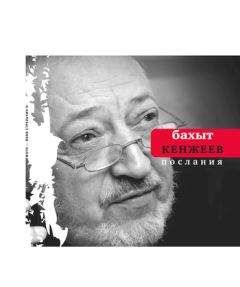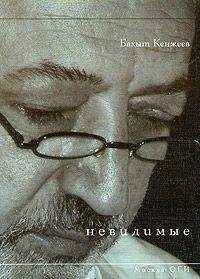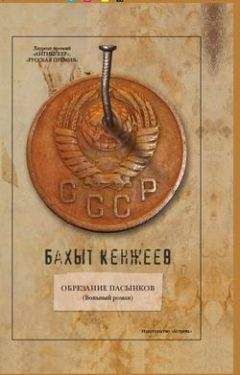«Когда зима, что мироносица…»
Когда зима, что мироносица,
над потемневшею рекою
склонясь, очки на переносице
поправит мёртвою рукою,
и зашатается, как пьяница
заблудший по дороге к дому,
и улыбнётся, и приглянется
самоубийце молодому —
оглядываясь на заколоченный
очаг, на чаек взлёт отчаянный,
чем ты живёшь, мой друг отсроченный,
что шепчешь женщине печальной?
То восклицаешь «Что я делаю!»,
то чушь восторженную мелешь —
и вдруг целуешь землю белую,
и вздрагиваешь, и немеешь,
припомнив время обречённое,
несущееся по спирали,
когда носили вдовы чёрное
и к небу руки простирали.
«Так вездесущая моль расплодилась, что и вентилятор не нужен…»
Так вездесущая моль расплодилась, что и вентилятор не нужен.
Так беспокойная жизнь затянулась, что и её говорок усталый
стал неразборчив, сбивчив, словно ссора меж
незадачливым мужем
и удручённой женою. Разрастаются в небесах кристаллы
окаменевшей и океанской. К концу десятого месяца
римского года, когда католики празднуют Рождество
Искупителя, где-то в Заволжье по степным дорогам носится,
бесится
бесприютная вьюга, и за восемь шагов не различишь ничего,
и ничего не захватишь, не увезёшь с собою,
кроме замёрзших болотных
огоньков, кроме льда, без зазоров покрывающего
бесплотные своды
воображаемой тверди, кроме хрупкой любви.
Всякое слово – отдых
и отдушина. Где-то в метели трудится, то есть молчит,
белобородый
Санта-Клаус, детский, незлой человек, для порядка
похлёстывая говорящего
северного оленя, только не знаю, звенит ли под расписной дугой
серебряный колокольчик, потому что он разбудил бы
зимующих ящериц
и земноводных, да и утомлённых ёлкою сорванцов-баптистов.
Другой
бы на его месте… «Прочитай молитву». – «В царство
степного волка
и безрассудной метели возьми меня». Вмёрз ли ночной паром
в береговой припай? Снежная моль за окном ищет шерсти
и шёлка,
перед тем как растаять, просверкав под уличным фонарём.
«Прижми чужую хризантему…»
Прижми чужую хризантему
к груди, укутай в шарф, взгляни
в метель. Младенческому телу
небес так холодно. Одни
прохожие с рыбацкой сетью
в руках рыдают на ходу,
иные буйствуют, а третьи,
скользнув по облачному льду,
уже спешат в края иные,
в детдом, готовящийся нам,
где тускло светятся дверные
проёмы, где по временам
минувшим тосковать не принято —
и высмеют, и в ПТУ
не пустят. Что ты, милый. И не то
ещё случается. Ау,
мой соотечественник вьюжный.
Как хрупок стебель у цветка
единственного. День недужный
сворачивается – а пока
ступай – никто тебя не тронет,
лишь бесы юные поют —
должно быть, Господа хоронят,
Адама в рабство отдают…
«Видишь ли, даже на дикой яблоне отмирает садовый привой…»
Видишь ли, даже на дикой яблоне отмирает садовый привой.
Постепенно становится взгляд изменника медленней
и блудливей.
Сократи (и без того скудную) речь до пределов дыхания полевой
мыши, навзничь лежащей в заиндевелой дачной крапиве,
и подбей итоги, поскуливая, и вышли (только не имейлом,
но авиапочтой,
в длинном конверте с полосатым бордюром,
надписанном от руки)
безнадёжно просроченный налог всевышнему, равный,
как в Скандинавии,
ста процентам прибыли, и подумай, сколь необязательны
и легки
эти январские облака, честно несущие в девственном чреве
жаркий снежок забвения, утоленья похмельной жажды,
мягкого сна
от полудня и до полуночи, а после – отправь весточку Еве
(впрочем, лучше – Лилит или Юдифи), попросив об ответе на
адрес сырой лужайки, бедного словаря, творительного
падежа – выложи душу, только не в рифму, и уж тем более не
говорком забытых Богом степных городков, где твердая тень Его
давно уже не показывалась – ни в церкви, ни на вокзале,
ни во сне
местной юродивой. И не оправдывайся, принося лживую клятву
перед кормилом
Одиссея – не тебя одного с повязкою на глазах
в родниковую ночь увели
где, пузырясь, ещё пульсирует время по утомлённым могилам
спекшейся и непрозрачной, немилостивой земли.
«Чёрно-белое, сизое, алое…»
Чёрно-белое, сизое, алое,
незаконное, злое, загробное,
нелюбимое и небывалое,
неживое, но жизнеподобное —
вероятней всего, не последнее,
не мужское, не женское – среднее,
не блаженство – но вряд ли несчастие,
и коварное, и восхитительное
прилагательное (не причастие,
и тем более не существительное) —
приближается, буйствует, кается,
держит кости в кармане горелые,
и когда не поёт – заикается,
подбирая слова устарелые —
а навстречу ему безвозмездное,
исчезающее, непреложное,
пусть беззвёздное – но повсеместное,
и безденежное, и безнадёжное.
Что, монашек, глядишь с недоверием?
Видно заживо, намертво, начисто
надышался ворованным гелием —
вот и кашляешь вместо акафиста,
дожидаешься золота с голодом,
долота, волнореза железного —
не знаком с астероидным холодом
или вспышкой костра бесполезного.
«Одним хлыстовское радение, другим топорное наследие…»
Одним хлыстовское радение, другим топорное наследие
революционной академии, юродство ли, трагикомедия —
не успокаивается дух воинственный, стреляющий в коршуна
и аиста,
стремится к истине единственной, отшатывается, задыхается,
но – то ли ветер с юга, то ли я, один под облаками серыми,
запамятовал, что история богата скорбными примерами
предательства и многобожия да снежной крупкой безымянною,
что сыплется над светлокожею равниной, над открытой раною
отвергнутого человечества… А мне твердят – свобода лечится
другой свободой, над тобой ещё, постой, сгустится время
влажное,
как бы мамаево побоище, где плачут дети гнева княжьего, —
нет, мне роднее муза дошлая, сестрица пьяницам, поющим о
нерастревоженности прошлого и невозможности грядущего.
«Мороз и солнце. Тощая земля…»
Мороз и солнце. Тощая земля
в широких лысинах, припудренных снежком,
почтовый ящик пуст. Читай, работы не прислали.
Весь день я отдыхаю от души.
То запускаю самодельный сборник
советских песен, то, поёживаясь, смотрю
чудовищные сталинские ленты
по телевизору, то попиваю водку,
то антологию «Стихи тридцатилетних»
дотошно перелистываю, где
чешуйчатые бурлюки и айзенберги
на мелководье бьют упругими хвостами,
где маленькие бродские из норок
потешные высовывают мордашки,
где уценённые цветаевские барби
тугие силиконовые грудки
показывают публике… Как славно!
Вот юркий притаился кушнерёнок
в руинах Петербурга, не заметив
большого маяковского хорька
поблизости, вот серенький айги
летит с огромной коркой, детка-брюсов
под плинтусом усами шевелит…
Бог в помощь вам, друзья мои! Всё лучше,
чем торговать дубленками, писать
в «Российскую» иль «Новую» газету,
ширяться героином и т. п.
Точней рифмуйте, образы поярче
ваяйте да синекдоху-голубу
не обижайте, алкоголем не
злоупотребляйте, и не забывайте,
с какою горькой завистью на вас
глядит из ада робкий Баратынский,
и как пыхтят в ночи дальневосточной
четыре вора, что на переплавку тащат
сто шестьдесят кило отменной бронзы —
запоздалый памятник, точнее, кенотаф
воронежскому жесткоглазому щеглу.
«Упрекай меня, обличай, завидуй…»
Упрекай меня, обличай, завидуй,
исходи отчаяньем и обидой,
презирай, как я себя презираю,
потому что света не выбираю —
предан влажной, необъяснимой вере,
тёмно-синей смеси любви и горя,
что плывёт в глазах и двоится стерео
фотографией северного ночного моря.
Что в руках у Мойры – ножницы или спицы?
Это случай ясный, к тому же довольно старый.
Перед майским дождиком жизнь ложится
разноцветным мелом на тротуары.
Как любил я детские эти каракули!
Сколько раз, протекая сиреневым захолустьем,
обнимались волны речные, плакали
на пути меж истоком и дальним устьем!
Сколько легких подёнок эта вода вскормила!
Устремлённый в сердце, проходит мимо
нож, и кто-то с ладьи за пожаром мира
наблюдает, словно Нерон – за пожаром Рима.
«Я позабыл черновик, который читал Паше Крючкову…»
Я позабыл черновик, который читал Паше Крючкову
на крылечке заснеженной дачи, за сигаретой «Ява
Золотая» и доброю рюмкой «Гжелки». Ну что ж такого!
Всё равно будет месяц слева (считал я), а солнце справа,
будет мартовский ветер раскачивать чудо-сосны,
угрожая вороньим гнездам, и снова мы будем вместе,
приглушив басы, безнадежно слушать грустный и грозный
моцартовский квартет. Только слишком долго пробыл в отъезде,
а жильё скрипучее тем временем опустело. Алые волны-полосы
заливают небо. Вечер над темной Яузой чист, неуёмен, влажен.
Немногословный профессор Л. упрекает меня вполголоса —
дотянул, говорит, до седых волос, а ума не нажил,
Но рассуждая по совести, братия, – ну какой из меня воин!
То бумажным листам молился, то опавшим, то клейким листьям.
Безобразничал, умничал, пыжился – и на старости лет усвоил —
что? – только жалкий набор подростковых истин.
Вечер над Яузой освещен кремлёвскими звёздами —
якобы из рубина, а на самом деле даже не хрустальными. Тает
чёрный снежок московский, и если поддаться позднему
откровению, то и Федор Михайлович – отдыхает.
Ну и Господь с ним. Есть одно испытание —
вдруг пробудиться от холода где-то к исходу ночи
и почувствовать рядом тёплое, призрачное дыхание,
и спросить «ты меня любишь?», и услышать в ответ «не очень».
«…и рассуждал бы связно, да язык мой…»