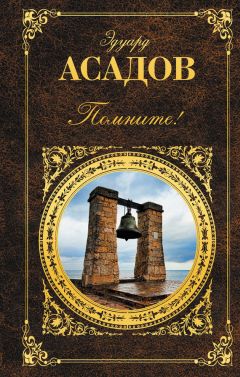Ульяненко и Синегубкин неопределенно мычат. Зато Турченко вновь берет ее под защиту, и непонятно опять, то ли он шутит, то ли говорит всерьез:
– Ну вы посмотрите, Гедейко, – держа на вытянутой руке карточку Кати, продолжает он. – Симпатичная, привлекательная. И наверняка любит вас! А может быть, это действительно ваше счастье?
Но мы не сдаемся:
– Постой, а что она тебе там написала, можно прочесть?
Гедейко скребет небритую щеку и, отворачиваясь, говорит:
– Черт с вами, читайте!..
Лаконичная надпись на обороте гласит: «Мужу Юри от жены Кати». Так и написано: не Юре, а Юри.
– Ничего себе интеллект! – хохочу я. – Великолепно: «Мужу Юри от жены Кати». Главное ведь, чтобы ты не перепутал, что она не соседка и не теща, а именно жена. И что зовут ее Катя. Садись, пиши и не валяй дурака! Ты же умный человек, интеллигент. А это же тетя с кухни.
– Да ну вас всех к дьяволу! – возмущенно вопит Юра. – Ладно, разберусь потом. Утро вечера мудренее. А сейчас пойду спать!
И он мрачно лезет на печку.
Потом, много месяцев спустя, когда я уже раненый лежал в госпитале в Москве, он пришел меня навестить. После долгих разговоров, когда он стал уже прощаться, собираясь уйти, я вдруг вспомнил и, улыбнувшись, спросил:
– Постой, Юра, а как супруга твоя в Вологде, дождалась тебя или нет? Ну, помнишь: «Мужу Юри от жены Кати».
Гедейко тяжело вздохнул и махнул рукой.
– Да ну, совершенная чепуха! Ты был абсолютно прав. Она действительно нашла другого. Какого-то двухметрового здоровенного тыловика. Ведь нравятся же дурам всегда дылды. И написала мне, чтобы я больше не приезжал… И осталось у меня теперь от этой женитьбы, милый мой, всего-навсего вот что… – И вынув из бумажника, он протянул мне обожженный клочок фотографии. – Это все, что осталось от Кати. Так сказать, «клочок несостоявшегося счастья». Вот так-то, дружище!..
– Зачем же ты бережешь этот клочок?
Юра мрачно сказал:
– Так, чтоб о женском коварстве подольше помнить. Как говорится, умный учится на чужих ошибках, а болван на своих. Ну прощай, до встречи. Приезжай когда-нибудь в Ленинград!
Удивительно и непредсказуемо складываются порой человеческие судьбы и пересекаются людские дороги. В последний раз мы встречались с Юрой Гедейко весной 1945 года. Затем на много лет потеряли друг друга из вида. И я потом даже не знал: жив он еще или нет? И вдруг нечаянный сюрприз: весной 1986 года в одном из концертных залов Ленинграда на сцену приходит записка: «Дорогой Эдик! Сижу в зале и с огромным удовольствием слушаю, как бурно встречают тебя ленинградцы. Спасибо за стихи, за прекрасный вечер. До острой боли вспоминаю нашу фронтовую молодость. Обнимаю и целую тебя. Твой Юра Гедейко». В конце же ни адреса, ни телефона… Ничего.
Честно говоря, я был уверен, что он подойдет ко мне после вечера. Но он, как выяснилось потом, постеснялся, поскромничал и не подошел. Не буду утомлять читателей рассказом о том, как я разыскивал Юру Гедейко. Поиски мои осложнились тем, что я забыл его отчество. Да и разве бывает отчество в юности?! Я почему-то думал, что он Михайлович, а он оказался Зиновьевичем. Но славные работники ленинградского адресного стола все-таки отыскали мне моего Юру.
И вот мы сидим с ним в моем гостиничном номере – друзья, встретившиеся через столько лет!.. Из ресторана мне притащили какую-то бутылку вина, но она стоит почти нетронутой. Мы хмелеем от теплоты встречи, разговоров, воспоминаний. Юра… впрочем, нет, теперь уже Юрий Зиновьевич, солидный инженер с небольшой полнотой и неторопливой серьезной речью. Да, у него все хорошо: семья, дом, работа… Хотя насчет «хорошего дома» это, пожалуй, многовато. Живет Юра до сих пор в коммуналке и по скромности своей все еще не может выбраться в отдельную квартиру.
Юра смеется:
– Да пес с ней, с этой квартирой! Не в этом, в конце концов, счастье. Тем более что в будущем году все-таки обещают что-то сделать. Главное, что вот встретились. Это куда важней! Я ведь бывал на твоих вечерах и прежде… Почему не подходил? Да просто по дурости. А вдруг, думаю, ты зазнался и начнешь важничать: что да кто?.. Спасибо, что ошибся. Это хорошо, что ты жира себе не нарастил ни на пузе, ни в душе. Ну, а как Турченко? Борис Синегубкин? Ты кого-нибудь встречаешь?.. Ну расскажи, расскажи.
И мы вспоминаем и рассказываем, рассказываем и вспоминаем вновь…
В конце же встречи я, как хозяин, спохватываюсь:
– Смотри, у нас стоит армянское вино, а мы с тобой даже за встречу еще не выпили!
Гедейко застенчиво улыбается:
– Ну и бог с ним, с этим вином. Я ведь никаких вин с послевоенных лет, можно сказать, категорически не пью. Да и ты, я смотрю, не мастер по этим делам. Ну давай, чтобы не быть ханжами, поднимем бокал за встречу, да и довольно.
– Погоди, погоди, – смеюсь я, – а как же раньше? Если не ошибаюсь, тебя при помощи Бахуса женить изволили. Карточку помнишь: «Мужу Юри от жены Кати». Так было или не так?
Юра смущенно улыбается, а затем, посерьезнев, вдруг говорит:
– А ты знаешь, после этого случая я, можно сказать, ничего уже и не пью. Уж очень скверная это штука – хмель. Человек перестает быть самим собой! – И вдруг опять улыбается: – Жаль, постановления насчет вина в те годы еще не было. Многим бы оно пригодиться могло. Впрочем, не поздно и сейчас. Не знаю, как в других городах, а у нас в Ленинграде немало голов остудило, особенно в среде молодежи. Нет, честное слово, и зачем этот хмель, если на свете столько прекрасного!
Мы с Галей проводили его пешочком через весь Ленинград. А он шел и с удовольствием философствовал о непреходящих земных ценностях.
Одного только в суматохе дел я не успел узнать. А именно: одарил ли Ленгорисполком фронтовика-офицера Юрия Зиновьевича Гедейко самой что ни на есть «преходящей» земной радостью в виде ордера на отдельную квартиру, которого он ожидает столько лет?..
Первый снег, или Два снеговика (Из дневников)
Сегодня 30 декабря 1978 года. Вот уже несколько дней в Переделкино, как и во всем Подмосковье, лежит и не тает новорожденный снег… Пожалуй, он знает, что является первым, и это ему, очевидно, очень нравится. Он лежит, раскинувшись на мягкой желтой листве, на высохших травах, словно малыш в удобной постели, и настроение у него, кажется, отменное. Он сверкает на утреннем солнце самой что ни на есть первозданной белизной и улыбается влажно и беззаботно. В воздухе для декабря теплынь, всего три градуса ниже нуля.
Я гуляю, как всегда, по своей нахоженной дорожке от пятачка перед Домом творчества до калитки на улице Серафимовича. И у меня на душе тоже как-то необычно светло и покойно. Словно и нет на свете ни споров, ни недугов, ни огорчений. А если и есть что-нибудь, то исключительно одни только удачи, хорошие друзья и приятные сообщения о включении в планы издательств моих новых книг.
Ни ветерка. Он тоже, видимо, ощутив торжественную красоту нынешнего утра, не шумит, не крутится, а стоит на цыпочках в кустах, поджимает попеременно озябшие ноги, но не решается нарушить эту тихую радость. Спасибо ему!
Однако снег хотя и молодой, хотя и первый, но инстинкт самосохранения у него, кажется, есть. Улыбаясь весело солнцу, он вместе с тем чувствует, что излишняя доверчивость на первых порах – плохая гарантия от невзгод. Поэтому периодически он как бы опускает штору и вызывает пополнение в виде пушистых воздушных десантов. И тогда между небом и деревьями повисают мириады крохотных невесомых парашютиков. Бесчисленные полки пушисто и важно опускаются на березы, тополя и скамейки. Причем совершенно бесшумно, как и полагается настоящему десанту. И тогда, почувствовав себя вновь уверенно и отбросив занавес, при этом став еще белее и прекраснее, первый снег снова улыбается солнцу доверчиво и лукаво…
Я гулял, заложив руки за спину, привычным маршрутом. Сто двадцать метров туда и столько же обратно. Дорожка так знакома, что о ней почти не думаешь, а думаешь о многом, о разном, едва ли не обо всем… Воистину безграничен полет человеческой мысли. Кто скажет, о чем может думать человек, шагая по дорожке в такое вот улыбчивое белоснежное утро? О войне?! Да, как ни парадоксально это может показаться кому-то, но думал я о войне. А точнее, об одном эпизоде, об одном только дне из многих сотен других. Причем не кровавом, а чем-то даже по-своему светлом. Впрочем, очень удивляться не надо. Определенная нить в этих раздумьях была и ассоциативность ощущений, видимо, тоже. Первый снег… Да, вот именно первый снег. И возник в моей памяти один эпизод, который произошел едва ли не в этот же самый день ровно тридцать пять лет тому назад, а именно в декабре 1943 года под Перекопом.
А вспомнился мне этот далекий военный зимний день не только по ассоциации с нынешним первым снегом, а еще, вероятно, и потому, что этот день – один из очень немногих, оставивший в душе, ну, романтическое ощущение, что ли. Хотя слова «война» и «романтика» почти полностью исключают друг друга, в этом я абсолютно убежден. И если находятся еще люди, которые спустя многие годы пытаются в романах, спектаклях или киносценариях романтизировать какие-то эпизоды войны, то с полной ответственностью говорю, что все это кощунство, фальшь и больше ничего. Я прошел войну с начала и почти до конца, воевал на севере и на юге, видел светлые и черные дни и знаю, что говорю. День же, о котором я вспомнил сейчас, конечно же, никакая не романтика. Просто вот такое ощущение возникло у меня в душе, так как день этот был единственным, когда я, может быть, на несколько минут заглянул и шагнул в детство, в то далекое, невозвратное, довоенное, при воспоминании о котором еле ощутимо сжимается сердце. И еще запомнился мне этот день, видимо, потому, что тогда я впервые увидел будущую героиню моей поэмы «Шурка».