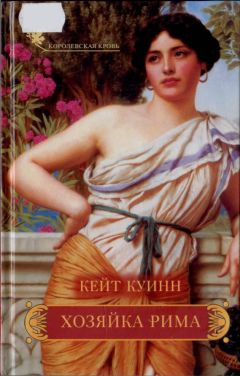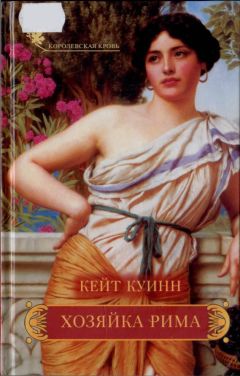«Как в море монетку…»
Как в море монетку,
в надежде,
что снова вернутся
и что не навечно прощаются, —
не так ли однажды и нас
в это море житейское бросили,
и —
ушедшие —
не возвращаются.
Вот и я
в этот бурный
мятущийся мир
бросил вас,
как три денежки медные,
а теперь ухожу —
я пока еще здесь, —
но уже ухожу,
что ни день
отдаляюсь от вас,
три кровинки мои,
золотые мои,
мои бедные.
Что ни день,
все пустынней мое побережье,
и знакомые лица
все реже и реже.
Что ни день,
словно горный обвал
мне на голову валится.
Я пока еще здесь, слава богу,
но близится срок
собираться в дорогу,
и уже на три части
скорбящее сердце мое
разрывается.
Современная быль о рыбаке и рыбке
… И когда она мне сказала – проси, чего хочешь,
я ответил смущенно – ну что вы, спасибо, как можно!
Благодарствуйте, я ей сказал, государыня рыбка,
я уж как-нибудь сам постараюсь управиться с этим.
И старался. Усердствовал. Сам свое ладил корыто.
Сам старухам своим угождал, поелику возможно.
Ту дворянкою звал столбовой и ни в чем не перечил,
ту – царицей морскою, да сам же и был на посылках…
Так прошло, почитай, тридцать лет и три дня и три года.
Вот и снова у синего моря стою одиноко.
И опять выплывает ко мне государыня рыбка —
ну чего, говорит, ну чего тебе надобно, старче?
И смиренно ответствовал я государыне рыбке —
ничего, я сказал, ничего мне такого не надо,
ни палат, говорю, расписных, ни сокровищ несметных —
мне бы только покою чуть-чуть, если это возможно…
Ничего не ответила мне государыня рыбка,
ничего не ответила мне, ничего не сказала,
только трижды своей головой золотою качнула,
да плеснула хвостом, да ушла в помутневшие воды.
А мне снился покой – он был тих, и просторен, и светел,
и одно лишь в моей благодати меня сокрушало,
что не ведаю ныне, довольны ли душеньки ваши,
ах, царицы мои, ах, дворянки мои столбовые!
Когда на экране,
в финальных кадрах,
вы видите человека,
уходящего по дороге вдаль,
к черте горизонта, —
в этом хотя и есть
щемящая некая нотка,
и все-таки это, по сути, еще не финал —
не замкнулся круг —
ибо шаг человека упруг,
а сам человек еще молод,
и недаром
где-то за кадром
поет труба,
и солнце
смотрит приветливо с небосклона —
так что есть основанья надеяться,
что судьба
к человеку тому
пребудет еще благосклонна.
Но когда на экране,
в финальных кадрах,
вы видите человека,
уходящего по дороге вдаль,
к черте горизонта,
и человек этот стар,
и согбенна его спина,
и словно бы ноги его налиты свинцом,
так он шагает
устало и грузно, —
вот это уже
по-настоящему грустно,
и это уже
действительно
пахнет концом.
И все-таки,
это тоже
еще не конец,
ибо в следующей же из серий
этого
некончающегося сериала
снова
в финальных кадрах
вы видите человека,
уходящего по дороге вдаль,
к черте горизонта
(повторяется круг),
и шаг человека упруг,
и сам человек еще молод,
и недаром
где-то за кадром
поет труба,
и солнце
смотрит приветливо
с небосклона —
так что есть основанья надеяться,
что судьба
к человеку тому
пребудет еще благосклонна.
Так и устроен
этот нехитрый сюжет,
где за каждым финалом
следует продолженье —
и в этом, увы,
единственное утешенье,
а других вариантов
тут, к сожаленью,
нет.
«…И уже мои волосы – ах, мои бедные кудри!..»
…И уже мои волосы – ах, мои бедные кудри! —
опадать начинают,
как осенние первые листья
в тишине опадают.
Дух увяданья, звук опаданья неразличимый
исподтишка подступает,
подкрадывается незаметно.
Лист опадает, лес опадает, звук опаданья неразличимый
в ушах моих отдается подобно грому,
подобно обвалу и камнепаду,
подобно набату.
Катя, спаси меня! Аня, спаси меня! Оля, спаси меня! —
губы мои произносят неслышно —
да нет, это листья,
их шорох, их шелест,
а чудится мне,
будто я говорю,
будто криком кричу я.
Лес опадает, лист опадает, падает, кружится
лист одинокий,
мгновенье еще,
и уже он коснется земли.
Но – неожиданно, вдруг, восходящим потоком
внезапно подхватит его,
и несет,
и возносит все выше и выше
в бездонное небо,
и – ничего нет, наверно, прекрасней на свете,
чем эта горчащая радость
внезапного взлета
за миг до паденья.
«День все быстрее на убыль…»
День все быстрее на убыль
катится вниз по прямой.
Ветка сирени и Врубель.
Свет фиолетовый мой.
Та же как будто палитра,
сад, и ограда, и дом.
Тихие, словно молитва,
вербы над тихим прудом.
Только листы обгорели
в медленном этом огне.
Синий дымок акварели.
Ветка сирени в окне.
Господи, ветка сирени,
все-таки ты не спеши
речь заводить о старенье
этой заблудшей глуши,
этого бедного края,
этих старинных лесов,
где, вдалеке замирая,
сдавленный катится зов,
звук пасторальной свирели
в этой округе немой…
Врубель и ветка сирени.
Свет фиолетовый мой.
Это как бы постаренье,
в сущности, может, всего
только и есть повторенье
темы заглавной его.
И за разводами снега
вдруг обнаружится след
синих предгорий Казбека,
тень золотых эполет,
и за стеной глухомани,
словно рисунок в альбом,
парус проступит в тумане,
в том же, еще голубом,
и стародавняя тема
примет иной оборот…
Лермонтов. Облако. Демон.
Крыльев упругий полет.
И, словно судно к причалу
в день возвращенья домой,
вновь устремится к началу
свет фиолетовый мой.
«Скрипка висит у меня на стене…»
Скрипка висит у меня на стене,
не играет —
пыль собирает,
а рядом смычок
и – тихо,
молчок.
Скрипка висит у меня на стене
грустная
и расстроенная,
потому что жизнь у нее неустроенная,
да едва ли уже устроится —
как уж тут не расстроиться.
Скрипка висит у меня на стене,
в стену врастая, —
нет, не знатного она роду,
скрипочка моя простая
(барышня из крестьянок,
артисточка крепостная
из хора) —
нет, не знатного она роду,
скрипочка моя простая —
не Страдивари и не Гварнери —
так,
скорее, деталь в интерьере
в этой квартире
(как, впрочем, и я).
А ведь если бы взять ее в руки,
в добрые руки,
в нежные руки —
уж какие бы тут полились
волшебные звуки! —
здрасьте, маэстро Моцарт,
маэстро Гайдн,
маэстро Бах! —
ах! —
вы посмотрите,
скрипочка ожила —
о ла-ла! —
ми,
вторая октава,
по квинтам,
вниз —
браво, скрипочка,
браво-брависсимо,
бис!..
Но скрипка висит у меня на стене,
не играет,
и лишь временами
в ночной тишине
чудятся ей эти руки,
добрые руки,
нежные руки.
(Так же, как, впрочем, и мне.)
Доктор
Павел Дмитриевич Колченогов,
этакий увалень,
сибирский медведь,
врач по призванью,
а не по званью,
когда разрезал меня
и когда зашивал,
что-то все время под нос себе напевал,
и в этом его бормотанье невнятном звучало
нечто такое,
что означало начало
моего исцеленья,
моего воскрешенья.
Доктор Васильева
Елена Юрьевна,
женщина маленькая и хрупкая,
с виду совсем еще словно девочка,
когда сердце мое
вдруг вздумало разрываться,
она разорваться ему не давала,
день и ночь надо мной колдовала,
чутко слушая
все его стуки и перестуки,
мягко ощупывая
изодранные мои вены —
доброе ее сердце и мудрые руки
да будут благословенны!
Доктор Горецкая
Лидия Степановна
склоняется над шуршащей лентой
моей
совсем еще свежей
электрокардиограммы,
где тонкие линии тянутся вверх,
как башенки и старинные храмы,
и пишет историю моей болезни,
а по сути – историю моей жизни,
моих побед, и моих свершений,
и всяческих подвигов ратных,
моих крушений и поражений
самых невероятных,
пишет, как летописец,
в строгой своей манере,
к каждой мелочи проявляя
такой интерес неподдельный,
как будто бы я император римский
по меньшей мере
или, уж в крайнем случае,
киевский князь удельный.
А вечером, когда я спать укладываюсь
на свой диванчик,
ко мне неизменно присаживается
самый давний мой доктор,
доктор
Антон Павлович Чехов.
– Ах, – говорит он, – батенька,
мы-то ведь с вами знаем,
что пульса никакого нет!.. —
И жизнь моя предстает предо мной
как вполне заурядная драма.
И я засыпаю,
как лес просыпается
после зимней спячки.
И снова мне снится,
что меня полюбила
прелестная юная дама,
иногда с собачкой,
но чаще уже —
без собачки.
«Зачем послал тебя Господь…»