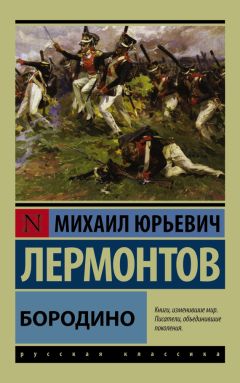Ночь. III
Темно. Всё спит. Лишь только жук ночной,
Жужжа, в долине пролетит порой;
Из-под травы блистает червячок,
От наших дум, от наших бурь далек.
Высоких лип стал пасмурней навес,
Когда луна взошла среди небес…
Нет, в первый раз прелестна так она!
Он здесь. Стоит. Как мрамор, у окна.
Тень от него чернеет по стене.
Недвижный взор поднят, но не к луне;
Он полон всем, чем только яд страстей
Ужасен был и мил сердцам людей.
Свеча горит, забыта на столе,
И блеск ее с лучом луны в стекле
Мешается, играет, как любви
Огонь живой с презрением в крови!
Кто ж он? кто ж он, сей нарушитель сна?
Чем эта грудь мятежная полна?
О, если б вы умели угадать
В его очах, что хочет он скрывать!
О, если б мог единый бедный друг
Хотя смягчить души его недуг!
Дробись, дробись, волна ночная,
И пеной орошай брега в туманной мгле.
Я здесь, стою близ моря на скале;
Стою, задумчивость питая.
Один, покинув свет, и чуждый для людей,
И никому тоски поверить не желая.
Вблизи меня палатки рыбарей;
Меж них блестит огонь гостеприимный;
Семья беспечная сидит вкруг огонька
И, внемля повесть старика,
Себе готовит ужин дымный!
Но я далек от счастья их душой,
Я помню блеск обманчивой столицы,
Веселий пагубных невозвратимый рой.
И что ж? – слеза бежит с ресницы,
И сожаление мою тревожит грудь,
Года погибшие являются всечасно;
И этот взор, задумчивый и ясный –
Твержу, твержу душе: забудь.
Он всё передо мной: я всё твержу напрасно!..
О, если б я в сем месте был рожден,
Где не живет среди людей коварность:
Как много бы я был судьбою одолжен –
Теперь у ней нет прав на благодарность!
Как жалок тот, чья младость принесла
Морщину лишнюю для старого чела
И, отобрав все милые желанья,
Одно печальное раскаянье дала;
Кто чувствовал, как я, – чтоб чувствовать страданья,
Кто рано свет узнал – и с страшной пустотой,
Как я, оставил брег земли своей родной
Для добровольного изгнанья!
Простосердечный сын свободы,
Для чувств он жизни не щадил;
И верные черты природы
Он часто списывать любил.
Он верил темным предсказаньям,
И талисманам, и любви,
И неестественным желаньям
Он отдал в жертву дни свои.
И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей.
Он умер. Здесь его могила.
Он не был создан для людей.
Прими, прими мой грустный труд
И, если можешь, плачь над ним;
Я много плакал – не придут
Вновь эти слезы – вечно им
Не освежать моих очей.
Когда катилися они,
Я думал, думал всё об ней.
Жалел и ждал другие дни!
Уж нет ее, и слез уж нет –
И нет надежд – передо мной
Блестит надменный, глупый свет
С своей красивой пустотой!
Ужель я для него писал?
Ужели важному шуту
Я вдохновенье посвящал,
Являя сердца полноту?
Ценить он только злато мог
И гордых дум не постигал;
Мой гений сплел себе венок
В ущелинах кавказских скал.
Одним высоким увлечен,
Он только жертвует любви:
Принесть тебе лишь может он
Любимые труды свои.
Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет;
Хочу – и снова затрудненье!
Зачем? что пользы будет мне?
Мое свершится разрушенье
В чужой, неведомой стране.
Я не хочу бродить меж вами
По разрушении! – Творец,
На то ли я звучал струнами,
На то ли создан был певец?
На то ли вдохновенье, страсти
Меня к могиле привели?
И нет в душе довольно власти –
Люблю мучения земли.
И этот образ, он за мною
В могилу силится бежать,
Туда, где обещал мне дать
Ты место к вечному покою.
Но чувствую: покоя нет,
И там, и там его не будет;
Тех длинных, тех жестоких лет
Страдалец вечно не забудет!..
(Прочитав жизнь Байрона <написанную> Муром)
Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны; – нет;
Нет! все мои жестокие мученья –
Одно предчувствие гораздо больших бед.
Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел:
У нас одна душа, одни и те же муки;
О, если б одинаков был удел!..
Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.
Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад – прошедшее ужасно;
Гляжу вперед – там нет души родной!
(Москва)
Зачем семьи родной безвестный круг
Я покидал? Всё сердце грело там,
Всё было мне наставник или друг,
Всё верило младенческим мечтам.
Как ужасы пленяли юный дух,
Как я рвался на волю, к облакам!
Готов лобзать уста друзей был я,
Не посмотрев, не скрыта ль в них змея.
Но в общество иное я вступил,
Узнал людей и дружеский обман,
Стал подозрителен и погубил
Беспечности душевный талисман.
Чтобы никто теперь не говорил:
Он будет друг мне! – боль старинных ран
Из груди извлечет не речь, но стон;
И не привет, упрек услышит он.
Ах! я любил, когда я был счастлив,
Когда лишь от любви мог слезы лить.
Но эту грудь, страданьем напоив,
Скажите мне, возможно ли любить?
Страшусь, в объятья деву заключив,
Живую душу ядом отравить
И показать, что сердце у меня
Есть жертвенник, сгоревший от огня.
Но лучше я, чем для людей кажусь,
Они в лице не могут чувств прочесть;
И что молва кричит о мне… боюсь! –
Когда б я знал, не мог бы перенесть.
Противу них во мне горит, клянусь,
Не злоба, не презрение, не месть.
Но… для чего старалися они
Так отравить ребяческие дни?
Согбенный лук, порвавши тетиву,
Гремит – но вновь не будет прям, как был.
Чтоб цепь их сбросить, я, подняв главу,
Последнее усилие свершил;
Что ж. – Ныне жалкий, грустный я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.
С минуту лишь с бульвара прибежав,
Я взял перо – и, право, очень рад,
Что плод над ним моих привычных прав
Узнает вновь бульварный маскерад;
Сатиров я для помощи призвав,
Подговорю, – и всё пойдет на лад.
Ругай людей, но лишь ругай остро;
Не то –…ко всем чертям твое перо!..
Приди же из подземного огня,
Чертенок мой, взъерошенный остряк,
И попугаем сядь вблизи меня.
«Дурак» скажу – и ты кричи «дурак».
Не устоит бульварная семья –
Хоть морщи лоб, хотя сожми кулак,
Невинная красотка в сорок лет –
Пятнадцати тебе всё нет как нет!
И ты, мой старец с рыжим париком,
Ты, депутат столетий и могил,
Дрожащий весь и схожий с жеребцом,
Как кровь ему из всех пускают жил,
Ты здесь бредешь и смотришь сентябрем,
Хоть там княжна лепечет: как он мил!
А для того и силится хвалить,
Чтоб свой порок в Ч**** извинить!..
Подалее на креслах там другой;
Едва сидит согбенный сын земли;
Он как знаток глядит в лорнет двойной;
Власы его в серебряной пыли.
Он одарен восточною душой,
Коль душу в нем в сто лет найти могли.
Но я клянусь (пусть кончив – буду прах),
Она тонка, когда в его ногах.
И что ж? – он прав, он прав, друзья мои.
Глупец, кто жил, чтоб на диете быть;
Умен, кто отдал дни свои любви;
И этот муж копил: чтобы любить.
Замен души он находил в крови.
Но тот блажен, кто может говорить,
Что он вкушал до капли мед земной,
Что он любил и телом и душой!..
И я любил! – опять к своим страстям!
Брось, брось свои безумные мечты!
Пора склонить внимание на дам,
На этих кандидатов красоты,
На их наряд – как описать всё вам?
В наряде их нет милой простоты:
Всё так высоко, так взгромождено,
Как бурею на них нанесено.
Приметна спесь в их пошлой болтовне,
Уста всегда сказать готовы: нет.
И холодны они, как при луне
Нам кажется прабабушки портрет;
Когда гляжу, то, право, жалко мне,
Что вкус такой имеет модный свет.
Ведь думают тенетом лент, кисей,
Как зайчиков, поймать моих друзей.
Сидел я раз случайно под окном,
И вдруг головка вышла из окна,
Незавита, и в чепчике простом –
Но как божественна была она.
Уста и взор – стыжусь! в уме моем
Головка та ничем не изгнана;
Как некий сон младенческих ночей
Или как песня матери моей.
И сколько лет уже прошло с тех пор!..
О верьте мне, красавицы Москвы,
Блистательный ваш головной убор
Вскружить не в силах нашей головы.
Все платья, шляпы, букли ваши вздор.
Такой же вздор, какой твердите вы,
Когда идете здесь толпой комет,
А маменьки бегут за вами вслед.
Но для чего кометами я вас
Назвал, глупец тупейший то поймет
И сам Башуцкой объяснит тотчас.
Комета за собою хвост влечет;
И это всеми признано у нас,
Хотя – что́ в нем, никто не разберет:
За вами ж хвост оставленных мужьев,
Вздыхателей и бедных женихов!
О женихи! о бедный Мосолов;
Как не вздохнуть, когда тебя найду,
Педантика, из рода петушков,
Средь юных дев как будто бы в чаду;
Хотя и держишься размеру слов,
Но ты согласен на свою беду,
Что лучше всё не думав говорить,
Чем глупо думать и глупей судить.
Он чванится, что точно русский он;
Но если бы таков был весь народ,
То я бы из Руси пустился вон.
И то сказать, чудесный патриот;
Лишь своему языку обучен,
Он этим край родной не выдает:
А то б узнали всей земли концы,
Что есть у нас подобные глупцы.
(Продолжение впредь)