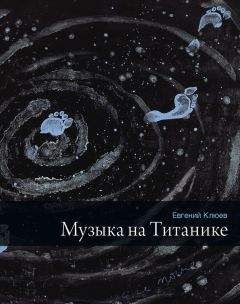На языке Пираха
«Рассказать тебе это на двух языках?..»
Рассказать тебе это на двух языках?
Рассказать тебе это на трёх языках?
Я не жил эту жизнь, я витал в облаках,
я витал в облаках, я ходил в дураках,
я не знаю, не помню любви —
только, стало быть, огненные языки
говорят из гортани моей… вопреки
этой жизни, которая мне не с руки —
дали в руки, сказали: живи.
Я не жил эту жизнь, она как-то сама
и, наверное, не от большого ума
получалась – подобно манере письма:
эти палочки, эти крючки,
друг за друга цепляясь, свивались в слова,
и они были мало опасны сперва,
лишь потом, так сказать… полыхали дрова
и плясали огня языки.
И на тех языках я витал в облаках,
и на тех языках я ходил в дураках,
в их божественных сполохах я впопыхах
что-то всё-таки тут учинил,
что могло б учиниться и так, без меня —
и до этого самого, видишь ли, дня
я трещу… а о чём – ты спроси у огня,
у бумаги спроси, у чернил.
1
На втором родном всё не так,
как на первом родном – родном:
ах, на первом родном всё всегда вверх дном
и во всём всегда кавардак.
На втором родном всё светло как днём
и качается метроном.
А на первом родном – качается сад
и снежинки во тьме блестят.
На втором родном за окном —
с молоточком прилежный гном,
а на первом родном за окном —
песня пьяненькая, со слезой.
И я знаю, что мне на втором родном
не побаловаться вином:
на втором родном я бревно бревном,
а на первом – лоза лозой.
2
На втором родном – названия:
все стоят к плечу плечом.
А на первом – лишь названивания:
было б, Господи, о чём!
Чинно щёлкнут карабинчики…
А на первом – лишь одни
колокольчики-бубенчики
с целым ворохом родни.
Полечу себе по небу я,
где высокий перезвон,
ничего от нас не требуя,
вышиб дно и вышел вон —
и лови по Божьим вотчинам
звук за лесом, за бугром
на как следует завинченном,
на толковом, на втором!
Ан заслышав карабинчики
и команду снизу: пли! —
унеслись мои бубенчики,
колокольчики мои.
«Облаку сделалось душно в кулаке…»
Облаку сделалось душно в кулаке,
облако вырвалось в небо и затем
стало серебряным – мимо пролетел
сон, говорящий на другом языке.
И на подушку мою невдалеке
пало тревожное мокрое перо —
всё про себя мне поведавши и про
мир, говорящий на другом языке.
Я это, в общем-то, уже замечал:
не понимается, как тут ни ершись,
то, о чем с нами говорит по ночам,
кажется, жизнь – да скорей всего не жизнь.
Но ощущаешь, что музыка цела,
только играть её как-то не с руки:
все эти шалости, все эти шумки,
звуков неведомых тайные дела,
все эти лёгкие тени на плетень,
все эти странствия дальнею межой… —
и, не способная справиться, гортань
радостно давится песнею чужой!
Ах, заблудившись однажды на заре
в здешнем моём бестолковом словаре,
что мне сказать – отправляясь налегке
к вам, говорящим на другом языке?
Нам надо переговорить —
хоть где-нибудь, хоть на вокзале:
мы всё неправильно сказали,
всё надо переговорить.
А то ведь… жизнь пошла петлять
и так причудливо петляла,
что нас уже не впечатляло
опять за ней бросаться вспять.
Но надо переговорить —
и надо всё перелопатить,
все дыры переконопатить,
остроты все переострить,
и весь табак перекурить,
и перепить весь чай, весь кофе,
и переусмирить всю прыть,
и перевыжить в катастрофе,
где два сигнальные флажка
вдруг не заметили друг друга —
и жизнь, насмешница, хитрюга,
их разбросала на века.
Воспоминаньями сорить,
к чужой судьбе себя готовить…
вот только б встретиться, а то ведь
так и не переговорить.
«Мою душу бросят в городской сток…»
Мою душу бросят в городской сток,
моё тело бросят в городской ров.
Тише, не волнуйся, это я так…
непереводимая игра слов.
Ни к чему оплакивать мой злой рок —
это ерунда, что всё идет вкривь:
непереводимая игра строк,
непереводимая игра рифм.
В этот город я уже совсем врос,
страшно лёгок мне его корней груз —
непереводимая игра фраз,
непереводимая игра грёз.
Только не пытаться понимать всех:
всяк ведь как умеет, так и живёт,
и летает в небе золотой смех —
непереводимый детский смех, вот.
«Ложка дикого мёда и веточка винограда…»
Ложка дикого мёда и веточка винограда,
и зелёного чая светлая бездна…
Что касается вашего кофе среднего рода,
то, спасибо, не надо – да пожалуй, и поздно:
в это время я кофе не пью, тем более среднего рода.
И поверьте, что дело не в консерватизме
и не в том, что порода не та или, скажем, природа…
Дело в прожитой жизни,
в одной лишь прожитой жизни,
от которой и так уж не много чего осталось —
так… щепотка весьма потрёпанных идеалов,
как то: эгалите, либерте и прочая малость —
или милость, да парочка идолов обветшалых,
да большая любовь – я теперь забыл её имя,
да постыдное мелкотемье и малострофье,
да остаток уменья не группироваться с другими —
и дымящийся кофе, дымящийся чёрный кофе.
Я уехал не в страну —
я уехал в тишину,
я уехал на рассвете
(было пусто на билете)
и состарился в полёте
ровно на одну струну,
ровно на одну строку,
на понюшку табаку —
ровно на одну понюшку,
взятую с собой в дорожку…
собирался понарошку,
поклонялся ветерку.
Собирался понарошку,
путая орла и решку,
попивал с гостями бражку,
поминали старину.
Говорил о чём – о Боге,
и о том, как мы убоги,
но состарился в дороге
ровно на одну струну —
на ту самую струну,
на ту самую строку,
что с тех пор ищу по свету
столько лет, да толку нету, —
на строку, на сигарету…
на одно кукареку.
1
Говорят, я совсем не знаю этого человека.
А я знаю, что ветер в его голове зелёной,
что он скачет на лошади белой, блестя короной,
и что мёд в его сердце, а на устах ежевика.
Говорят, это всё хорошо, только этого мало —
и я должен иметь в руках рулетку и компас:
вот тогда я с ним, значит, как следует познакомлюсь
и начну разговаривать как ни в чём не бывало.
А пока, говорят, не ходи до конца абзаца,
не встречай незнакомца своею приветливой песней,
ибо он кем угодно может вдруг оказаться,
стой в начале абзаца: оттуда он безопасней.
Но вчера я общался с ним как со старым знакомым:
посидели, попили вина, поболтали о вечном,
а когда наболтались, он сразу сказал: «По коням!» —
и к себе ускакал, в направлении ежевичном.
Улыбается фрёкен Грамматика – ей вольну улыбаться:
значит, так, говорит, заруби на носу, калека,
человек этот нам неизвестен покуда, и баста,
хоть и мёд в его сердце, а на устах ежевика!
2
Между тем, твоя песня, мой милый, давно уж спета.
А когда она спета, мой милый, все взятки гладки.
А когда они гладки, мой милый, то нет загадки —
всё на свете определилось само собою.
Этой чашке давно пропели многая лета.
Из неё пило чай уже несколько поколений —
у неё и вид совсем уже юбилейный,
у неё есть фамилия – вот хоть, допустим, Хансен.
А ещё у меня есть стол по имени Клаус,
а ещё у меня есть скатерть по имени Дорте,
дорогущая ручка Марлен и портфель потёртый:
двадцать лет, из России – Ершов Николай Петрович.
Ничего незнакомого в жизни моей не осталось —
весь мой хаос давно учтён и пронумерован.
Что до внешнего мира, лежащего за порогом,
то когда-нибудь я и там всё пронумерую.
А пока я чужой ему – и не умею, не понимаю
отличить то, что каждому пню на земле известно,
от всего остального… и с башней глухонемою
говорю как с сестрою, с которой росли бок о бок.
«То славянщина, а то… то неметчина…»
То славянщина, а то… то неметчина —
до каких же пор, скажите на милость?
Стоит только замереть… – всё изменчиво,
всё давным-давно уже изменилось.
И ни дома нет того, ни отечества,
ни рогатой той ветлы у развилки —
всё сплошное, извините, летучество…
ни постели, виноват, ни подстилки!
Я и сам бы изменился бы к лучшему,
я бы снова занялся бы азами,
я послал бы эту жизнь мою к лешему
и взглянул на всё другими глазами —
скажем, лекаря, а может, и пекаря
или пахаря… пахал бы глубуко!
Ан живу себе, как жил: добрый век коря, —
и нисколько не меняюсь, собака.
Да и знаю, что как жизнь ни нарядится,
ни прикинется нечистою силой —
не меняется в небе Богородица,
не меняется Ангел сизокрылый.
«Что там в руках – что в облаках…»