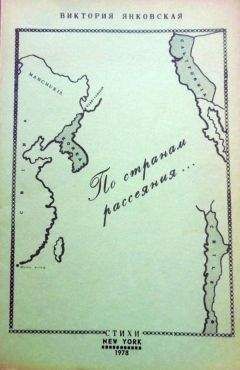Скала-Будда
Здесь море, шиповник, песок раскаленный,
Цветы голубые морского царя[4],
И я — человек, перед ним оголенный,
Сливаюсь с песком. Я желтей янтаря.
Второй человек — это Будда из камня.
Природа швырнула его на скалу —
С ним встреча сегодня случайно дана мне:
Ему поклоняюсь, его я люблю.
Теперь поняла я пристрастье к растеньям:
Он травы велел мне в потоки кидать;
Их жизнь берегу я с языческим рвеньем —
За лишний цветок может он покарать!
Спокойный и серый. Он к морю очами,
А справа и слева огни маяков.
Он их наблюдает густыми ночами,
От скал отстраняя слепых моряков.
Шиповник малиновый, белый ползучий
И плющ — все по скалам стремится к нему…
Твое ли ученье, приказ ли твой лучший
Я в лунную ночь эту точно пойму?
Лукоморье, 1929
Разбросаны в небе лохмотья
Багровые в серых штрихах,
А море в закатной дремоте
Качается в берегах.
На пляже песчаном и нежном
Беседуем с Буддой одни,
Следя, как меняют одежды
Горячие летние дни.
Он тихо спросил о желаньях —
Он каменный, вечно немой.
И с грустью, услышав молчанье,
Задумался надо мной.
Но я прочитала в ответе:
Не думай о них никогда,
Дано больше многих поэту —
Все прочее суета!
Лукоморье, 1932
Четыре Какемоно
Из цикла «Японской кистью»
Весна
Шляпы, шляпы, шляпы — зонтики,
А под ними пары голых ног.
Поле водное на ломтики
Тропки режут вдоль и поперек.
Руки липнут в грязной слякоти —
В них зеленые росточки — рис,
Как надежды, садят шляпы те,
Всю весну качаясь вверх и вниз.
Лето
Вечер. Тихи лягушек дуэты.
Спелся даже с цикадой кузнечик!
И ласкался — заметило это —
С черной бабочкой розовый венчик…
На огонь от моей сигареты
Светлячок налетел по ошибке…
А луна — ты придешь для поэта,
С ним деля одинокость улыбки…
Осень
У щита золотой нимб.
Он червленый. На нем — ворон
И сухая ветка под ним…
В отдаленьи — черные горы.
Кто свой мрачный герб бросил?
Не Вселенная ли? Нет!
Это вид. Это только — Осень —
И луна, пролившая свет.
Зима
Ветром прорвано бумажное оконце:
Чья рука по фолиантам бродит ровно,
А другая зябко жмется над жаровней? —
Тонкая, точеная рука японца…
Вижу чайничек с дымящеюся чашкой,
Ноги скрещенные, пестроту подушки…
Но прихлопнул ветер дырочку, как вьюшку,
И чужая жизнь навек ушла из вашей!
1930
Окутали речные берега
Контрастно, робко и красиво
В цветенье абрикос и слива,
И нежные последние снега.
Как жизнь и смерть. Как свет и тени.
Их встреча — миг! Но жизнь не для нее ль?
И радость в сердце острая, как боль,
В прозрачно-ярко день весенний.
Я расстанусь и с этой страной —
Потому что вся жизнь — расставанье.
Но с тобой, как с последней весной,
Тяжелее, больнее прощанье.
И мечтать, и стрелять, и любить —
Все на том полуострове диком.
Каждой мысли исходная нить
И о маленьком и о великом.
Все меня возвращает сюда
К этой девственно-яркой природе,
И разлука моя навсегда
Будет горшей из многих рапсодий…
Там, где прежде умела мечтать
В буйной чаще лесного вигвама,
Там, где я научилась страдать
По ушедшим — по Родине с Мамой…
Там и юность свою погребла
В жарких соснах и горных потоках,
У костров и у моря сожгла —
И осталась без них одинокой.
1939
О ЧИЛИ — КРАСИВОЙ И УЗКОЙ ЗЕМЛЕ
«Снова двинулись в страны рассеянья
Мы от милой чумазой земли»…
Алексей Ачаир
«Не сравнивайте Чили с саблей…»
(Габриэла Мистраль, перевод с испанского)
Не сравнивайте Чили с саблей.
Пора завоеваний миновала.
Теперь: топор, лопата, грабли
И трактор — вместо пули и кинжала.
Все Чили на весло похоже,
Что тянется от Севера до Юга:
Весь Юг — навеки заморожен,
А Север — у Тропического Круга.
Желтым пламенем, как свечи восковые,
В бурой зелени сияют тополя.
А вдали — вершины снеговые:
Вся в контрастах Узкая Земля.
Узкая-преузкая — вдоль моря
Тянется она из края в край:
Счастье — есть. Но выше меры — горе.
В хаотичной смеси — Ад и Рай.
Орошенные сады богатых,
Как оазисы встречаются подчас,
И красавицы, увешанные златом,
С поволокою кастильских глаз.
И беззубые, но завитые девы,
Мишурою прикрывая наготу,
Преисполнены соблазном Евы,
Бдят отчаянно на жизненном посту.
Здесь — неравенство с времен творенья:
Восемь женщин на мужчину одного!
И в восторженном самозабвеньи
Полигамия справляет торжество.
Эмигранты всевозможных наций
Забывают свой родной язык:
Так легко закон ассимиляций
Победил международный лик.
И чего б не сделали законы —
Сотворил Природы мощный глас:
Мавританские укрытые балконы —
И призывный блеск Кастильских глаз…
Путь: Сантьяго — Шангри-Ла, 1954
Жизнь брызгами своими щедро мечет,
А собирать — найдется водоем.
И звук покамест незнакомой речи
Становится милее с каждым днем.
Какой-то неизвестный переулок
В чужом чилийском городе опять
Находит в сердце теплый закоулок,
Себя любить заставит и страдать.
Страдать лишь потому, что все не вечно,
Что носит нас по всей земле теперь,
Но день пока неведомый, конечно,
Придет, чтоб затворить и эту дверь.
В любом отрезке времени найдется
Такое милое, что будет жаль…
Но сердце стерпит… Лишь тогда порвется,
Когда испишется Судьбы скрижаль.
Сантьяго, 1953
Печально оттого, что осень здесь в апреле.
В листе кленовом утопают до колен,
Уснувшие в шуршании аллеи…
А в Кордильерах белоснежный плен.
И то, что горизонт снегами здесь граничит
И веет холодом в закатные часы,
А в полдень — зной… От этого двуличья —
Лишилась жизнь своей простой красы.
Как зябнут хризантемы посреди газонов,
Как будто их ноябрь прижал своей рукой —
И в этой неурядице сезонов
Душа моя утратила покой.
Мне грезится цветенье диких абрикосов,
Багульник видится в пригревах четких скал.
И я совсем больна — больна большим вопросом:
Ужели для меня Восток навек пропал?
Сантьяго, 1954
Два мохнатых шмеля копошатся
Только в цинниях плотно-махровых —
Тяжелы их тела для петуний,
Даже роза качнется от них…
Две колибри-красавицы мчатся
С легким присвистом мало-знакомым:
Невесомые птички-колдуньи —
Чисто южный особенный штрих!
Взмахи крыльев ее, как пропеллер;
Длинный клювик впивается в венчик,
И петуния ей отдается,
Замирая в порыве любви…
Это гномичий крошечный веер —
От невинности он беззастенчив…
С легким присвистом кормится-вьется —
Лишь нектар в ее теплой крови…
Шангри-Ла, 1957
«Собираю опавшие листья…»