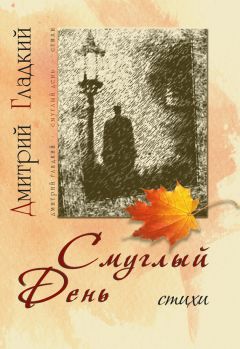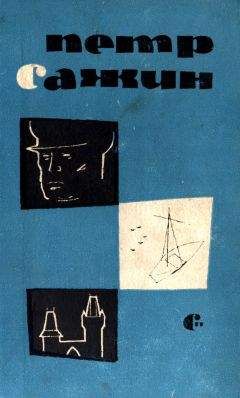«Шелестит таинственная осень…»
Шелестит таинственная осень
Как в монашей келье часослов,
Сосны упирая в неба просинь
Стрелками торжественных часов.
Там мерцает, ноет будто спьяну
Одинокая продрогшая звезда,
Ей с акцентом вторят иностранным
Телеграфные вдоль трассы провода.
Не туман над речкою струится –
Мир накрывшая кармическим крылом
Дивная божественная птица
Кормит землю веры молоком,
Чтобы каждому достало откровения,
Всякому хватило выбирать
Путь и долг, и сторону творенья
За какие жить и умирать.
Быль и небыль – суть единокружие,
«Да» и «Нет» Творцу равноугодны.
Тенью свет поверив, пламя стужей,
Смерти жизнь доверив, мир оружию
Человек становится свободным.
Я забрёл в букинистическую лавку
В старом дворике Кузнецкого моста.
Мне навстречу встал из-за прилавка
Персонаж библейского холста.
Был старик под стать его товару, –
Как пергамент с пылью седины –
Авраам московских антикваров,
Ной книгопечатной старины.
Он вдоль полок вёл меня степенно,
Раритетов книжных генерал,
По-учительски умно и вдохновенно
Что-то мне про книги объяснял.
Невпопад в ответ ему кивая,
Я стыдился праздности своей,
Словно вся литература мировая
Мне пеняла с книжных стеллажей.
А старик очки протер платочком
И губу обиженно поджал:
Красноречья бисер вновь нарочно
Зря перед клиентом разбросал!
За прилавок, как за амбразуру
Встал и даже пальцем погрозил:
«Не ищите, мол, макулатуру –
У меня – солидный магазин!»
Ты, старик, бездарный наблюдатель,
Книжной пыли мелкотравчатый Гобсек!
Я такой, быть может, покупатель,
Каковых ты не видал вовек!
Здравомыслия заслуженный расстрига,
Вот за что я, сколь попросишь, заплачу:
Дай мне Господа поваренную книгу, –
Я рецепт любви узнать хочу!
Я ржавый меч держу в руках
И протираю керосином.
Пришёл таинственный монах,
Потом ушёл, неся корзину.
Лучина таяла в харчевне,
Хозяин налил в кружки эль,
И пьяно пел о королевне
Побитый оспой менестрель.
За дверью слышен храп коня,
Собаки изредка шумели,
И намечалась у меня
Война на будущей неделе.
Опьянённые соитием, стали рифмами слова,
Просветленьем, как короной, увенчалась голова.
Полумысль обернулась в бриллиантовый сюжет,
Вечер мёрзнет у порога в золотое разодет.
В небесах до дыр истёрты сгибы Млечного пути, –
Это карта небоходов! Чтоб по ней могли идти
Чудотрепетных созданий величавые суда
Сам Господь на ней отметил маяки и города.
Должен быть на карту эту нанесён и мой маршрут, –
Мимо пажитей небесных, где торжественно живут
Посреди травы забвенья, отрешившись от страстей
Шестикрылые служаки, что исполнены очей.
Опьянённые соитием, стали рифмами слова,
Сон ли, явь, земля иль небо – разберёшь теперь едва.
Ветер облаком играет, или крыльев тает след…
Вечер мёрзнет у порога в золотое разодет.
Калёная полночь, ты мой часослов!
Твои чёрные сосны, как стрелки часов.
Не спеши: позови, назови
Все мудрёные тайны свои.
Калёная полночь, невеста моя!
Твои горькие губы угрозу таят,
Но осталось всего ничего –
На приданое глянуть твоё.
Калёная полночь, родная жена!
Отчего же ты мне не осталась верна!?
Быть вовек мне уже неприкаянным, –
Нынче с Авелем, завтра с Каином…
Сударыня, мне снится всё одно:
Игривая Гертруда пухлой губкой
Потягивает мутное вино,
Со мною чокаясь посеребрённым кубком
С облупленной по краю окантовкой.
Держу пари, Вам стало бы неловко,
Когда б мой сон могли Вы увидать…
Нет ни Гертруды, ни вина. Идёмте спать.
Не забудет тебя Одиссей,
Да ты его, нимфа, тоже.
Но уже безупречный борей
Остудил, осушил ваше ложе.
Как вам сладко спалось, как нежны
Были ночи с тобой, но законом
Ни его, ни твоей нет вины,
Что мужья возвращаются к жёнам.
Он в слове угадал предел
границ, – как будто передел
маршрутов перелётных птиц,
явлений, дуновенья ветра,
и, наконец, божественную волю:
веками нить гекзаметра слепою,
но верною рукою геометра
чертить по человеческому полю.
(Beati, auorum tecta sunt peccata[1])
Структура мифа: главного героя
Ждёт оплеуха властного отца,
Изгнанье, цепи под скалою
И невозможность скорого конца.
Карающий отец не милует. Но вечен
Целебный вымысел: попробуй только тронь,
Коль из-за нас орёл терзает печень
За уворованный и даренный огонь.
Структура мифа: мы не так уж сонны.
Мы новые обряды утвердим,
Почтим героев, будем бить поклоны
Божественным изгнанникам своим.
Я тоже был отцом наказан в детстве,
Когда из фотокамеры его
Принёс мальчишкам, жившим по соседству
Магическое толстое стекло.
Я камеру разбил, чтоб удивить друзей
Особенностью линзы объектива –
Сплетать клубок из солнечных лучей,
Рождая пламени таинственную гриву.
Огонь, изгнание, падалыцик во чреве…
Даруя, знай, герой, что это не твоё!
Титан, мальчонка, гений духа в гневе…
Как, Прометей, сейчас тебе житьё?
И хоть меня клюёт орёл помельче,
В структуре мифа вижу смысл один:
Коль пораженьями мужает человече,
Пускай к победам их причислит, не судим.
Таким я запомню, наверно,
Не с кистью его с колонком, –
Пучком освежёванных нервов
Кладёт он мазок за мазком.
Три краски на грубой холстине
В неброском пейзаже его,
И вроде бы нет и в помине,
А всё-таки есть волшебство!
Там стынут за речкой покосы,
Белеет усадьбы балкон,
И псовая свора по овсам
Несётся за зайцем в угон.
Что сказано им в той картине –
Неважно. Скажу наперёд,
Что он от тоски и рутины
Туда, не простившись, уйдёт.
Голова моя пригодна для жилья
Даже самого серьёзного царя,
Но отстал от предложенья спрос,
И царям вопрос квартирный – не вопрос.
Может, не устраивает их
Квадратура площадей моих?
Иль район им чем-то не хорош?
Да монархов разве разберёшь!
Хоть бы завалященький царёк
Прописаться у меня бы мог, –
В жизни бы настал сплошной профит,
Но виной всему царёвый дефицит.
Вот такие нынче времена:
Голова моя монархам не нужна.
Что ж теперь – и вовсе пропадать?!
За работу, слышь, царёва мать!
Я есть как есть – кургузый пиджачок,
Залысины, седины, давит печень,
Зато достаточен в себе, как тот желток,
Что утром подаётся всмятку
Горячим, прямо к барскому столу.
И потому живу всегда в оглядку,
И свято верую, что миссией отмечен.
Мне невдомёк, что барин поутру,
Оглядывая постылое жилище,
Подумает: «Какая скукотища!»
Объявит, что весь завтрак был насмарку,
Прикажет выпороть усталую кухарку
И выбросит объедки за окно.
Ему что всмятку, что вкрутую – всё равно.
Есть сладость в предвкушении разлуки, –
Когда в новинку умиранье по слогам.
Ни пошлости тебе, ни хриплой скуки,
Ни зависти к безумцам и богам.
И в беге вижу я покоя очертанья –
Их равенства неоспорим скупой итог,
Как тождество любви и расставанья,
Стрелу с оленем породнивший холодок…
Хочу стреножить время паутинкой,
И тем обманом мудрость обрести, –
Так почитаем мы раскаянья горчинку
За сладкий яд ненужного «прости»!
Но оживу я в роскоши печальной –
Одушевлю все вещи, чтоб познать
Их скрытый смысл, чистый, изначальный
И смысл своей судьбе предначертать.
Возбуждённая, волоокая, в лилиях, ликах,
литературе,
В лиловых ливреях лукавых лакеев лучащаяся.
Видите всех великолепных вальяжных вельмож,
Вылежавших вдосталь всю власть в ложе Вашем?
Вольтера лишь вечером воспоминали?
Всё ледащий возница – в ледоход взалкал водки…
Воротились, возницу – в вериги, выпив вермута,
возлегли.
Лакей Ванька лобзал Вас, вспоминая лошадь,
лишённую ласки.
* * *
– Проснитесь, Матушка-императрица,
пора царствовать!
– Доннер ветер, и в этой стране не дадут поспать!