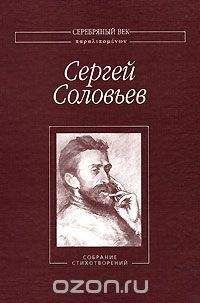XIII. ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
Три дня подряд господствовала вьюга,
И всё утихло в предвечерний час.
Теплом повеяло приветно с юга,
И голубой и ласковый атлас
Мне улыбнулся там, за леса краем,
Как взор лазурный серафимских глаз.
И я стою перед разверстым раем,
Где скорби все навек разрешены.
Стою один, овеян и лобзаем
Незримыми крылами тишины.
Леса синеют, уходя в безбрежность,
Сияют мне с вечерней вышины
И кроткий мир и женственная нежность.
Моя душа — младенчески чиста,
Забыв страстей безумную мятежность
И для молитв очистивши уста.
Недвижны ели, в небо поднимая
Ряды вершин — подобия креста;
И, небесам таинственно внимая,
Перед зари зажженным алтарем,
Лежит земля, безлюдная, немая.
Окрашена вечерним янтарем
Эмаль небес за белыми стволами.
Над тишиной передвечерних дрем
Закатный храм поет колоколами,
И гаснет там, за синею чертой,
Последний раз сверкнувши куполами.
Окончен день, морозно-золотой.
Вечерний час! вечернее моленье!
Вечерний час, заветный и святой!
Пора. Огни затеплило селенье;
Ложится тень на белые снега,
И легкий дым клубится в отдаленье,
Приветный дым родного очага.
Как чувства все таинственно окрепли!
Господь! Господь! к Тебе зовет слуга:
Огонь любви в моей душе затепли!
Прими меня, родной, убогий храм,
Где я искал и находил спасенье.
Куда ребенком бегал по утрам
К заутрене, в святое воскресенье.
Все в доме спят. Я тихо выйду вон,
Взволнован весь, и полон опасенья,
Не опоздать бы. На призывный звон
Спешу чрез лес, весенний и зеленый.
Крестясь, всхожу на сумрачный амвон,
Едва лучом янтарным окропленный.
Глядят в окно и шепчут меж собой,
Прильнув к стеклу, березы, липы, клены.
Иконостас с золоченой резьбой
Давно потуск. Как небеса синея,
Венчает своды купол голубой.
Мерцают свечи, кротко пламенея
Колеблющимся желтым язычком.
Истлевшая, тяжелая Минея
На клиросе лежит перед дьячком,
И староста обходит по приделам,
Звеня о блюдо медным пятачком.
Растаял ладан. В дыме переделом
Блистает медь закрытых царских врат;
Алтарь сияет радостным пределом,
Где нет скорбей: сомнений и утрат.
Мой старый храм! Как сердцу вожделенен
В твой темный рай замедленный возврат!
Всё то, чем мир для сердца многоценен
Я приношу к ступеням алтаря,
И мой восторг, как золото, нетленен
Моей весны ненастная заря!
Как быстро ты достигла половины,
Огнями зол, бушуя и горя.
Как с высей гор бегущие лавины,
Так громы бед гремели надо мной.
Но детство вдруг, с улыбкою невинной,
Как весть, как зов отчизны неземной,
Ко мне сошло из чистых поднебесий,
Чтоб утолить кровавой язвы зной.
В душе поет, поет «Христос воскресе»,
И предо мною, как забытый сон,
Алтарь, врата в задернутой завесе,
— Сквозь золото краснеющий виссон.
Хоть я с тобой беседовал немного,
Но мне твои запомнились черты,
Смиренная служительница Бога!
Ясна душой, весь мир любила ты:
Твои таза так ласково смотрели
На небеса, деревья, на цветы,
В родных лугах расцветшие в апреле.
Когда, прозябший, зеленел листок,
Когда лучи что день теплее грели,
И под окном разлившийся поток
Бежал, шумел, блистая в мутной пене,
Синела даль, и искрился восток, —
Бывало, ты на ветхие ступени
Присядешь, рада солнышку весны,
На жребий свой без жалобы, без пени;
А небеса — прозрачны и ясны,
И облаков блуждающие лодки
По ним бегут, как золотые сны.
Я помню лик твой, старческий и кроткий,
И белизну смиренного чепца.
Ты мать была для всякого сиротки:
И из гнезда упавшего птенца,
И бедную ободранную кошку,
У твоего бродящую крыльца,
Равно жалела. К твоему окошку
Все бедняки окрестных деревень
Протаптывали верную дорожку.
В раю теперь твоя святая тень.
Как твердо ты твоей служила вере,
Полна любви Христовой. В летний день,
Бывало, стукну я у низкой двери,
И в бедный дом войду. Как ангел ты;
Вокруг ютятся страждущие звери,
Горят лампадки, и цветут цветы,
И ты — живой символ долготерпенья —
Струишь на всех сиянье доброты.
Среди страстей окружного кипенья
Ты пребыла младенчески чиста.
Вся жизнь твоя — молитвенное пенье;
Ты — фимиам перед лицом Христа.
Твоя весна текла под сводом храма,
В горниле бед, молитвы и поста;
И горькой жизни тягостная драма
Спокойною зарей завершена.
Ты умерла, как облак фимиама;
Над гробом — мир, покой и тишина.
И каждый год трава могилы малой
Родной любви слезой орошена.
Над насыпью, вовеки не увялый,
Цветет венок из полевых цветов.
Фиалка синяя и розан алый
Сквозь изумруд березовых листов
Благоухают вечерами мая.
И дремлет ряд разрушенных крестов,
Словам небес задумчиво внимая.
В багрец и в золото одетые леса.
Пушкин
Вот в лесу золотошумном
Глохнут мертвые тропы.
Гулко бьют по твердым гумнам
Однозвучные цепы.
В переливах изумруда
Блещет, зыбко рябь струя,
Гладь расплавленного пруда —
Голубая чешуя.
Ветер дунет. Воду тронет,
Пошевелит стрекозу.
Золотистую уронит,
Грустно, дерево — слезу.
Небывалою усладой
Полон я. Не шелестя,
Пролетай и в волны падай,
Лист — отцветшее дитя!
Что-то как-то миновало.
Где-то кончилась гроза.
Без преград, без покрывала
Вечность смотрит мне в глаза.
Кто-то властный рек: довольно.
Усмирившись и внемля,
Вновь безлюдна, безглагольна,
Вновь молитвенна земля.
Круг полей — свободней, шире.
В бесконечность убежа,
Тлеет в пламенной порфире
Леса дальняя межа.
В этом кротком позлащенье,
В вещем шорохе листвы,
Извещенье возвращенья
Жаркой майской синевы.
Смерть с рожденьем — вечно то же,
Как начало и конец.
Осень, шествуй, в чащах множа
Искрометный багрянец!
Возрастающим сверканьем
Жажду сердца утоли!
Лес, пускай мы вместе канем
В смерть роскошную земли.
Нежит матовая краска
Отвердевшего листа.
С детства ведомая ласка
В дальнем небе разлита.
В синем блеске мысли стынут…
Иль из книги бытия
Возраст отроческий вынут,
Или вновь младенец я?
В чаще лесной густодебренной
Лег я в колючей траве.
На небе облак серебряный
Тихо плывет в синеве.
Полно, душа! не измеривай
Тягость грядущего дня.
Тень от зеленого дерева
Ласково лижет меня.
Миг совершенного отдыха.
Где-то затеряна цель.
Теплого синего воздуха
Греет меня колыбель.