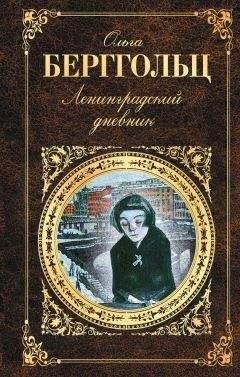Не отчаянье, а тупое, тягостное недоумение, тоска, почти парализующая, охватывает каждую клетку мозга, души, тела… Все, что делаешь, – кажется ненужным. Надо во что бы то ни стало написать о Седьмой симфонии – неудобно перед Юрой и перед ТАССом, но это же ни к чему, хоть и интересно.
Хочется крикнуть Западу: «Да что же вы, сволочи, медлите? Вам же хуже будет, если нас погубят!» Хочется крикнуть Югу: «Стойте же – все равно погибнете, даже если будете бежать! Стойте, у нас нет выбора, – смерть идет на нас, стойте, – быть может, тогда спасемся!»
Стихи «Именем Ленинграда» могут получиться, да отвлекает эта Седьмая. Попробую сейчас отстучать ее, чтоб освободиться и писать стихи. Но не стихами решается там наша судьба, я же знаю! Даже невероятный успех «Ленинградской поэмы», которая стала событием в жизни множества ленинградцев, чему получаю все новые и новые свидетельства, – не обманывает меня.
11/VIII-42
О, бедный Homo sapiens,
Существованье – бред…
Немцы уже в районе Краснодара, Майкопа, Армавира. Черт знает что! Немыслимо вдумываться даже в размеры этого поражения, грозящего катастрофой. Э-эх, дела!
Вчера с Яшкой были у Маханова по поводу Юры, – не безуспешно, – по крайней мере, в приказе не будет никаких компрометирующих его политических формулировок и «руководство» поставлено в известность обо всей этой грязной истории. Юра, видимо, останется здесь редактором – это хорошо в смысле того, что мы сможем жить здесь, в Радио, где есть свет, а след., может быть, относительно тепло. Видимо, если немцы не кинутся на Л-д и не возьмут его, – придется и вторую зиму зимовать в кольце. Надеюсь, что прошлогоднего кошмара не повторится, принимаются меры – люди переселяются в первые этажи, покучнее, готовится топливо, говорят, что есть продуктовые запасы, хотя вот за июль академического пайка так и не дали, сволочи, но все же надо готовиться к худшему – к трудной, нудной зиме…
Ох, как мы увязли! Вчера шли с Яшкой из горкома и говорили о том, какая уже усталость гнездится в душе, сознание бесперспективности какой-то, долгих-долгих дней лишений, нужды, напряжения страшнейшего…
Нервозное, раздраженное, угрюмое состояние, немыслимо трудно работать, хотя едим неплохо и в городе после местных боев – тихо, то ли сбили ихние батареи, то ли они готовят чудовищный удар. Но работаю с диким усилием, – все кажется ненужным, смехотворно жалким по сравнению с положением в стране, и чувство собственной личной беспомощности – трудно преодолимо. Да и распустилась я, наверное, – «лавры» опьянили. Надо попытаться написать стихи «Именем Ленинграда», хотя дуб-Маханов в чем-то прав, когда говорит, что пора перестать кричать о героизме ленинградцев, надо написать стишки для 42-й – уж очень они привязались… Надо собрать и сдать книжку – собственно готовую уже, и как-то все кажется глупым, хотя я и знаю, что слово сейчас – это тоже сила…
От Сережи нет писем, – неужели мальчик погиб, ведь он где-то там был, на Юге… Надо запросить его мать, – мне так хочется, чтоб он вышел из этой каши живым. Боже мой! Неужели никогда уже не вернуться нам всем к морю, к безграничному, единственно нужному человеческому счастью – слиянию с природой и покоем? Я, наверное, все же хочу жить, хотя иногда кажется, что все равно – жить ли, погибнуть ли…
Странно, я люблю Юру и жду его ребенка, и хочу его, – а вот жажды жизни, ожесточенного протеста против гибели – нет. Может, это и лучше? А м. б., это равнодушие просто потому, что в Л-де сейчас спокойнее, чем где бы то ни было?
13/VIII-42
Говорят, что немцами уже взят Пятигорск, хотя об этом у нас не сообщалось… Они отрежут у нас нефть – ясно.
…Все равно, надо жить, – м. б., уже недолго осталось. А если долго, если еще впереди много серого существования, мрака, тяжкого труда – тем более надо жить. Что же еще делать?
Личная жизнь омрачается круглосуточной тошнотой в соединении с февральским голодом, акцентированным на потребности острого, которого нет.
А так вообще пищи – много. Прилетела из-за кольца Кетлинская – привезла разного, в том числе моя радость – кофе…
20/VIII-42
Завтра во что бы то ни стало – с утра – пошлю отцу все, что ему надо, и буду работать.
Напишу для Информбюро о коме, пожарном полку и о Публичке (Колина Публичка), и надо стихи писать.
Я просто завалялась на лаврах – это становится неприлично. Сейчас с тошнотой чуть полегче, надо поменьше сил отдавать стряпне – и работать, работать. К этому обязывают меня хотя бы те многочисленные трогательные письма, которые продолжают поступать ко мне, гл. обр. с ленингр. фронта. Они радуют меня необычайно, горжусь ими страшно, но и смятенье охватывает: ведь в ответ на это надо что-то такое написать, что не разочаровало бы всех этих людей, ждущих от меня «новых вдохновенных песней…». Поэму массой отправляют за кольцо – родным, знакомым.
Я хотела бы написать несколько лирических песен-стихов, которые человек мог бы петь или бормотать один на один с собою, – ведь война идет через сердце все глубже.
Если б мне удалось написать что-нибудь вроде «Трансваля» – вот было бы счастье… Да разве такое простое и великое можно написать!
Разболталась я… Конечно, надо было иметь какую-то передышку после того, как оторвала огромную поэму, которая взяла массу сил, но уж, кажется, – довольно. Сашка Фадеев говорил, чтоб ни на что не транжирилась, а сидела и писала значительные вещи, но это, пожалуй, люкс.
Да, надо еще для партизан, выступление. М. б., 27-го поедем в Кронштадт, – к сожалению, выступать, но думаю, что увижу что-нибудь интересное, если по дороге не убьет немец – путь туда опасен. М<ежду> п<рочим>, отв. ред. «Комс. правды» прислал телеграмму, что будут печатать «Лен. поэму». Но пока еще не опубликовали. Ах, хорошо было бы! Но Сашка Прокофьев лопнет от зависти уже наверняка! Моя бешено взлетевшая известность после опубликования «Лен. поэмы» уязвила некоторых наших «инженеров душ» в самую печень. Решетов и Прокофьев – теперь мои враги! Прокофьев сегодня на совещании в Обкоме комсомола вел себя просто непристойно: Иванов (секр. Обкома) стал говорить о том, что вот я собрала сборник «Молодежь Ленинграда», что они послали мне благодарность, а Сашка стал выкрикивать: «А она нам это не послала» – и потом после заседания бормотал – уже мне: «Мы заменим вас, т. Берггольц, заменим», да с такой злобой! Боже мой, точно я суюсь куда-нибудь, чего-то добиваюсь… Сашка у меня сегодня – как отрыжка, вот идиот-то! Через горком должна идти моя книжка – через Паюсову, а муж Паюсовой – Решетов, уж он, конечно, наговорит такого, что книжка будет признана «вредной», «любованием зимними трудностями» и т. д. Ну, увидим. Тьфу, какая пакость – эта литераторская зависть, – даже в такое время люди не могут освободиться от нее! Ну, что нам всем – дела мало, места мало, читателей, что ли? Я просто понять всего этого не могу, – я радуюсь успеху «Жди меня» – ведь это наш брат, писатель, написал такое, милое всем, – а значит, как бы и я… Даже Ленке Рывиной, необычайно неприятной мне, я желаю всяческого успеха с ее поэмой, и хотелось бы, чтоб она получилась хорошей…
Юрка неожиданно имеет шанс ехать в Москву и тянет меня с собою, но это куча хлопот, и – неприличие, ездить за кольцо ни для чего… Он говорит, что там мы сможем обеспечить вылет в феврале – марте, к сроку моих родов, – но это мне кажется химерой, утопией. Что сейчас можно заранее обеспечить? За 6 мес. вперед? Вздор! Здесь нужно обеспечивать… Ну, он так хочет смотаться за кольцо, что, видимо, придется уступить, но, м. б., ничего не выйдет?
Он хотел сначала ехать в Балашов – у него безнадежна мать, и я обалдела втихомолку от этого его желания – как, в такие дни оставить меня здесь?! Но я ничего не сказала ему, хотя задыхалась от обиды, и он сам решил без меня не ехать, даже в Москву. Юра мой хороший, милый, нежно люблю его…
На Юге дела плохи – все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу… Оставлен Армавир, Майкоп, Краснодар… Дерутся в Пятигорске. Черчилль был у Сталина, – неужели все же они, эти мудаки, откроют второй фронт? И вдруг – скоро конец? Трудно как-то этому поверить…
…Да, все это так – и слава, и завистники, и немцы на Юге, и ребенок, который, видимо, будет, – но ведь Коли-то все-таки нет? Ведь нет его все-таки!..
Записи о Старом Рахине
Колхоз, 1949 год
20/V-49
Нахожусь в селе Старое Рахино, у женщины, о которой когда-то, в 44 году, писала по рассказам Юрки, бывшего здесь после выборгской истории.
Он, конечно, 99 % придумал тогда, мой Юра. А может, тогда было иначе, и иначе все воспринималось, в дни, когда сломали Финляндию и шли по Европе.