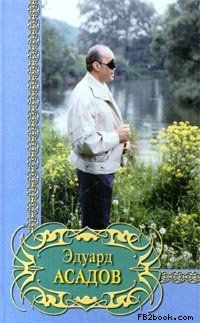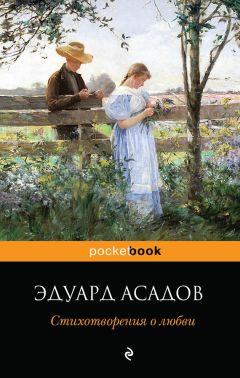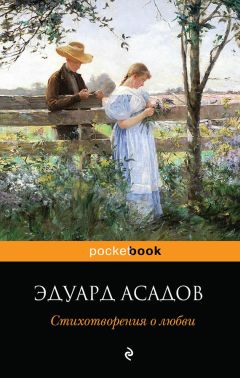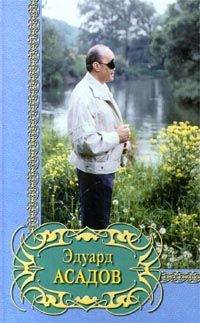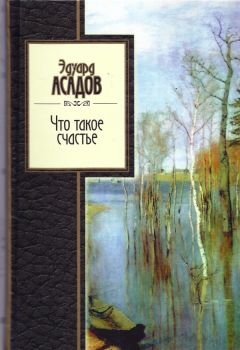ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ ОБЖОРЫ
Он столько съел, что трудно даже счесть,
И жадностью довёл себя до смерти,
Однако и в аду он будет есть,
Поэтому остерегайтесь, черти!
1993 г.
ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ ХОЛОСТЯКА
Он был всю жизнь холостяком
И знал невзгод немало.
Зато не умер дураком,
И это утешало.
1993 г.
ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ ЧЕСТНОГО ЧИНОВНИКА
Он крупный пост на службе занимал
И путь прошёл свой с праведными думами.
Он честным был. Он лжи не признавал
И взяток в жизни никогда не брал,
По крайней мере маленькими суммами.
1994 г.
Юность жаждет того и сего,
Юности нужен весь мир навек,
А зрелости нужен больше всего
Один-единственный человек…
1992 г.
— Я ненавижу мужа своего!
— Ну, так уйди скорее от него.
— Уйти, конечно, просто. Но тогда
Он сразу будет счастлив. Никогда!
1992 г.
Я прожил жизнь и весело, и сложно
И взяток в мире никогда не брал.
А почему? Да потому, возможно,
Что просто мне никто их не давал.
1994 г.
День ПОБЕДЫ, войны отрубивший беды!
Только зреют и снова нас жгут мечты:
Я мечтаю сегодня о дне ПОБЕДЫ
Справедливости, Правды и Доброты!
1987 г.
ГАЛИНА
(Лирическая повесть)
Глава 1.
В ТЕПЛОМ ПЕРЕУЛКЕ
1
Крик влетел пронзительный, звенящий
В каждый двор, окошко и чердак.
Он, как вспышка молнии слепящей,
Разорвал вечерний полумрак.
Крик влетел и лопнул, как струна.
Воздух стал вдруг непривычно гулок.
И в насторожённый переулок
Вороном упала тишина…
Что случилось? Женщина кричала.
Надо встать и выйти. Робость прочь!
Может быть, в беду она попала.
Нужно выйти, выйти и помочь!
Мужество! Ну где ж ты затаилось?
В Теплом переулке тишина…
Ни одно окно не растворилось.
Дверь не распахнулась ни одна.
Трусость, что ли, в душах колобродит?
Равнодушье ли к чужой судьбе?
Что же: всякий для себя, выходит?
Каждый, значит, только о себе?
Нет, не так! От крепкого удара
Дверь подъезда настежь: — Кто там? Эй! —
Вот уже бегут вдоль тротуара,
Голоса все ближе, все слышней.
Пусть не видно милиционера.
Раз беда — они помочь готовы.
Нет, не все укрылись за портьеры,
Нет, не все задвинули засовы!
2
А случилось так: у Рыбаковых
Праздновался Варин день рожденья.
И хозяйка, рдея от смущенья,
В красном платье, в туфельках вишнёвых,
В доме принимала поздравленья.
Тридцать семь — не так уж это мало.
Женщина тут вправе и слукавить.
Года три убавить для начала —
Пусть не три, пусть год, а все ж убавить.
Но какой ей год перечеркнуть?
Ведь не тот, что в руки дал букварь,
Год, когда дохнул морозом в грудь
Черно-белый памятный январь.
Скорбный зал… Крутой знакомый лоб…
Алые полотна кумача
И плывущий над рядами гроб
Близкого ребятам Ильича…
Этот год не позабудешь, нет!
Горестный, торжественный и строгий.
Ну а тот, что вырос на пороге,
Когда было Варьке десять лет?
Может, этот год прошёл как тень?
Взять — и зачеркнуть его, к примеру.
Только выйдет так, что в майский день
Варька не вступала в пионеры…
И какой бы счёт годам ни шёл,
Нет такого, чтобы крался тихо:
Этот год — вступленье в комсомол,
А другой — на фабрике ткачиха.
Это юность. Но ведь были годы,
О которых тяжко вспоминать?!
Вот война… дымы до небосвода…
У порога плачущая мать…
Тяжкий след оставила война.
Только как ей сбросить годы эти?
Выйдет ведь тогда, что не она
В полковом служила лазарете.
Выйдет, не она под свист и гром,
Прикрывая раненых собою,
Бинтовала под любым огнём
И несла их, стонущих, из боя.
Кто ж, как не она, порой ночной
Через топь болота ледяного
Вынесла с раздроблённой ногой
Старшину Максима Рыбакова?
Рыбаков в санбате стал грустить
И однажды молвил ей, вздыхая:
— Без ноги, как видишь, можно жить,
А вот без тебя как жить, не знаю…
И сейчас вот рядом, за столом,
Он, прошедший вместе с ней войну,
Наполняет свой бокал вином
И глядит с улыбкой на жену.
Пусть не лёгкий за спиною путь
И у глаз прибавилось морщин,
Только разве можно зачеркнуть —
Что там год — хотя бы день один!
Тридцать семь — не тридцать. Верно. Да.
Тридцать семь — не звонких двадцать пять.
Но, коль с толком прожиты года,
Право, их не стоит убавлять!
Веселились гости за столом,
Возглашали гости тосты разные.
И звенели рюмки хрусталём,
Вспыхивая искрами алмазными…
*
Крик влетел пронзительный, звенящий,
Заглушив застольный звон и гул.
Он как будто стужей леденящей
Прямо в душу каждому дохнул.
Сразу наступила тишина…
— Грабят, — кто-то произнёс несмело. —
Только наше дело — сторона.
Никому ведь жить не надоело.
Но хозяин, встав, ответил строго:
— Что мы, люди иль какие звери?
Лезь, мол, в норку, если где тревога… —
И пошёл, скрипя протезом, к двери.
Но уже, его опередив,
Кинулась Варвара в коридор.
Вся — один стремительный порыв,
Вниз… скорей! По лестнице во двор…
Пусть на ней не сапоги кирзовые,
Не шинель. Пускай на ней давно
Платье-креп и туфельки вишнёвые,
Но душа ведь та же все равно!
В ночь метнулись две плечистых тени…
И Варвара тотчас увидала
Женщину, что, подогнув колени,
Как-то странно наземь оседала…
Сжав лицо обеими руками,
Женщина стонала глухо, редко,
А сквозь пальцы тёмными ручьями
Кровь лилась на белую жакетку.
И когда сознание теряла,
Сотрясая Варю зябкой дрожью,
Все к груди зачем-то прижимала
Сумочку из светло-синей кожи.
Раны, кровь Варваре не в новинку.
Нет бинтов — и так бывало тоже.
С плеч долой пунцовую косынку!
— Милая… крепись… сейчас поможем…
Стали быстро собираться люди:
Слесарь, бабка, дворник, два солдата.
Рыбаков шагнул из автомата:
— Я звонил. Сейчас машина будет.
В это время появился тот,
Кто обязан первым появляться.
Строгий взгляд, фуражка, грудь вперёд.
— Граждане, прошу не собираться!
Позабыв давно о платье новом,
Кровь на нем (да разве тут до бала!),
Варя, сев на камень перед домом,
Раненую за плечи держала.
Вот гудок, носилки, санитары…
— Где она? Прошу посторониться! —
Раненая вскинула ресницы
И на миг поймала взгляд Варвары.
Словно что-то вымолвить хотела,
Но опять поникла в забытьи.
Врач спросила Варю: — Вы свои?
Вы подруги? Как здесь было дело?
Впрочем, можно говорить в пути.
Вы могли бы ехать? Дайте свету!
Да, все ясно… Тише… не трясти…
На носилки… так… теперь в карету!
Варя быстро обернулась к мужу:
— Знаешь, нужно что-то предпринять!
Я поеду. Вдруг ей станет хуже,
Может, дома дети или мать…
Улыбнулась: — Не сердись, мужчина,
Ты ступай к гостям, а я потом. —
Резко просигналила машина
И, взревев, исчезла за углом.
3
Врач вошла с чеканностью бойца
И сказала, руки вытирая:
— Под лопаткой рана ножевая,
И вторая — поперёк лица.
Но сейчас ей легче, и она
После операции уснула. —
Варю угнетала тишина,
Варя быстро поднялась со стула:
— Надо как-то близких отыскать. —
Брови, дрогнув, сдвинулись слегка.
— И какая поднялась рука
Так девчонку располосовать!
Доктор чуть качнула головой:
— Странно, вы чужая ей… А впрочем,
Вы правы, и скверно то, что прочим
Это странным кажется порой.
— Эта сумка, — молвила Варвара, —
Локтем крепко стиснута была,
Несмотря на два таких удара,
Женщина все сумку берегла.
Видно, там не шпильки и не ленты.
Вот возьмите, надо бы прочесть.
Верно, здесь бумаги, документы,
Имя, адрес в них, наверно, есть.
— Сумка? — Доктор сумочку взяла,
Быстро наклонилась, открывая,
И сейчас же посреди стола
Лента развернулась голубая.
Вслед за нею, как птенцы из клетки,
Выпорхнули дружно распашонки,
Чепчик, две батистовых пелёнки
И смешные детские баретки…
И глаза у докторши суровой
Как-то вдруг заметно потеплели:
— Целый гардеробчик малышовый!
Только как же быть нам, в самом деле?
Это мать. И молодая явно.
Подождите, вот и паспорт здесь:
Громова Галина Николавна,
Тёплый переулок. Двадцать шесть.
Вы помочь нам, кажется, готовы?
Хорошо вы знаете Москву?
— Тёплый переулок? Доктор, что вы,
Я же в переулке том живу!
Только что нам делать с малышом? —
Доктор улыбнулась: — Погодите,
Все сперва узнайте, а потом
Нам сюда немедля позвоните,
Едет беспокойная душа.
Мчит, считает каждый поворот!
Только пусть уж едет не спеша,
Ибо никакого малыша
В той квартире Варя не найдёт.
4
Над Москвою полог черно-синий,
В нем мигают звезды иногда.
Нынче плохо Громовой Галине,
У Галины Громовой беда.
А пришла беда совсем нежданно,
Наглою ухмылкой скаля рот,
В образе тупого хулигана
В переулке, около ворот.
Друг читатель! О судьбе Галины
Мы на миг прервём с тобою речь.
Нет беды на свете без причины.
Так неужто зла нельзя пресечь?
Может статься, где-то рядом с нами,
Может быть, у чьих-нибудь дверей
Бродят люди с чёрными сердцами,
Водкой накачавшись «до бровей».
Да, сегодня горе у Галины.
И, читатель, ты хотел бы знать:
Правда ли, что не нашлось мужчины
Руку хулигана удержать?
Многие кивнули б головою
И сказали: «Мы не знали, нет».
Многие б сказали так… Но трое
Лишь глаза бы спрятали в ответ.
Взгляд отвёл бы инженер, тот самый,
Что домой в тот вечер шёл с работы.
Да, он видел, как у поворота
К женщине пристали хулиганы.
Увидав, он очень возмутился
(Про себя, конечно, а не вслух)
И, проворством посрамляя мух,
В дверь подъезда, будто в щель, забился…
А бухгалтер Николай Иваныч,
Что живёт на первом этаже,
Он любил, окно раскрывши на ночь,
Покурить, листая Беранже.
Как же он? Забил ли он тревогу,
Видя, как два хмурых хулигана,
Сквернословя громко, беспрестранно,
Преградили женщине дорогу?
Николай Иваныч, что ж вы, милый!
Вы ли в этот вечер испугались?
Вы ж частенько похвалялись силой,
Вы ведь даже боксом занимались!
Если ж страх шептал нам, что без толку
Рисковать вот этак головой,
Ну сорвали б со стены двустволку!
Ну пальнули б в небо раз-другой!
Ну хоть закричали б, в самом деле,
Прямо из окна: «Не троньте! Прочь!» —
Только вы и крикнуть не посмели,
Видно, страх непросто превозмочь…
Вы спустили штору не спеша
И тихонько в щёлку наблюдали…
Славная, геройская душа,
Доблестней отыщется едва ли!
Впрочем, был и третий ротозей —
Ротозей с душонкою улитки:
Рыжий дворник — дядя Елисей.
Он взглянул и затворил калитку.
— Ну их всех в болото! — он сказал. —
Свяжешься, потом не расквитаться. —
Постоял, затылок почесал
И пошёл с женой посовещаться…
Друг читатель! Что нам эти трое?!
Пусть они исчезнут без следа!
Это так… Да только мы с тобою
С ними чем-то схожи иногда.
Вот, к примеру, ловкою рукою
Жулик тянет чей-то кошелёк.
Разве мы вмешаемся с тобою?
Чаще нет. Мы смотрим — и молчок…
Разве так порою не бывает,
Что какой-то полупьяный скот
К незнакомой девушке в трамвае,
Ухмыляясь, грубо пристаёт?
Он шумит, грозится, сквернословит,
Сотрясает хохотом вагон.
И никто его не остановит,
И никто не скажет: «Выйди вон!»
Никому, как видно, дела нету.
Тот глядит на крыши из окна,
Этот быстро развернул газету:
Тут, мол, наше дело — сторона.
Не встречая никогда отпора
Самой гнусной выходке своей,
Смотришь — этот парень у забора
Уж ночных дежурит «голубей».
«Голубями» он зовёт прохожих.
В самом деле, «голуби», не люди.
Если постовой не потревожит,
Грабь спокойно, ничего не будет.
Наши люди не цветы с окошка.
Воздвигали города в лесах,
Знали голод, видели бомбёжку,
Рвали скалы, бились на фронтах.
Почему ж порой у перекрёстка
Эти люди пятятся, дрожа
Перед слабым лезвием ножа
В пятерне безусого подростка?!
Мы тут часто оправданье ищем:
Всякое, мол, в лоб ему взбредёт,
Вот возьмёт и двинет кулачищем
Или даже бритвой полоснёт…
Только нe затем ли он грозится,
Не затем ли храбро бритвой машет,
Что отлично видит робость нашу?
Ну а робких, кто же их боится?
Вот и лезет хулиган из кожи,
Вот и бьёт кого-то, обнаглев…
И когда молчим мы, присмирев,
Это ж на предательство похоже!
Нынче плохо Громовой Галине.
У Галины Громовой беда.
Мой товарищ! Не пора ли ныне
С той бедой покончить навсегда?!