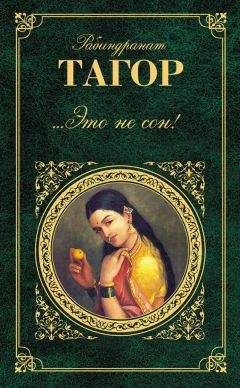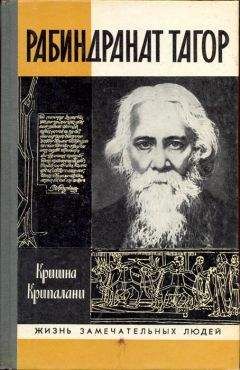Сегодня он не увидел в стихах никакой красоты, не нашел в них вечной радости жизни. Ни отзвука песен вселенной, ни глубокого проявления своей собственной души не ощутил он в них. Он отбрасывал все, что попадало под руку, как отталкивает больной всякую пищу. Дружба с раджей, слава, порывы души, мечты — все в эту темную ночь казалось ему пустым и ничтожным.
Поэт начал рвать свои сочинения и бросать их в огонь. Вдруг его осенило. Горько усмехаясь, он проговорил:
— Великие раджи приносят коня в жертву огню{121}, а я приношу в жертву свою поэзию.
Но он тут же понял, что сравнение неуместно. «Коня приносят в жертву в честь победы, а я потерпел поражение. Уж лучше бы я раньше отдал стихи мои богу огня!»
И он одну за другой сжег свои книги. Когда пламя ярко вспыхнуло, поэт вскинул вверх руки и, потрясая ими, воскликнул:
— Отдал тебе, тебе, тебе, о прекрасное пламя! Я все отдал тебе и сегодня приношу последнюю жертву. Долго ты, в ком воплотилась богиня-волшебница, горело в моей груди! Будь я из золота, я засиял бы. Но, богиня, я всего лишь ничтожная травинка — и потому превратился сегодня в пепел!
Была поздняя ночь. Шекхор распахнул все окна. Еще вечером собрал он в саду свои любимые цветы, все белые — жасмин, бел и гандхарадж. Он положил их пучками на чистое ложе. В четырех углах комнаты зажег светильники.
Затем он смещал ядовитый сок растения с медом, выпил. Лицо его было спокойно. Поэт медленно подошел к ложу, лег. Тело замерло, глаза закрылись.
Зазвенели браслеты. Вместе с южным ветром в комнату проник нежный запах женских волос.
Не открывая глаз, поэт воскликнул:
— О богиня, прошло так много времени! Неужели ты смилостивилась к своему почитателю? Неужели наконец навестила меня?
И он услышал мягкий, ласковый голос:
— Поэт, я пришла.
Шекхор вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стояла прекрасная юная девушка.
Он не мог ясно различить ее черты — приближающаяся смерть затуманивала глаза. Ему лишь почудилось, что в предсмертный час на него пристально смотрит та, чей призрачный образ жил в его сердце.
— Я Опораджита, — сказала девушка.
Поэт собрал все свои силы и приподнялся.
— Раджа поступил несправедливо. Победил ты, поэт. И я пришла отдать тебе гирлянду победы.
С этими словами Опораджита сняла с себя гирлянду из цветов, которую она сплела собственными руками, и надела ее на Шекхора. Сраженный смертью, поэт упал на ложе.
1892
Кабуливала
Перевод Е. Алексеевой
{122}
Моя маленькая пятилетняя дочка Мини минуты не могла посидеть спокойно. Едва ей исполнился год, она уже научилась говорить, и с тех пор, если только не спала, была просто не в состоянии молчать. Мать часто бранила ее за это, и тогда Мини умолкала, но я не мог так поступать с ней. Молчание Мини казалось мне настолько противоестественным, что долго я его не выдерживал, поэтому со мной девочка беседовала особенно охотно.
Как-то утром сел я было за семнадцатую главу моей повести. Но тут вошла Мини и начала:
— Папа, наш сторож Рамдоял называет ворону — каува![5] Он ведь ничего не знает, правда?
Я хотел объяснить ей, что в разных языках все вещи называются по-разному, но она тут же стала болтать о другом:
— Знаешь, папа, Бхола говорит, что на небе слон выливает из хобота воду и от этого идет дождь. И как это Бхола могла такое сказать?! Ей бы только болтать. День и ночь болтает! — И, не ожидая, пока я выскажу свое мнение на этот счет, вдруг спросила: — Папа, а кто тебе мама?
«Свояченица», — хотел было я сказать но решил не шутить.
— Иди поиграй с Бхолой, Мини. Я сейчас занят.
Но она не ушла, а села у моих ног, возле письменного стола, и быстро, быстро стала нараспев приговаривать «агдум-багдум»{123}, похлопывая в такт по коленям. А в это время в моей семнадцатой главе Протапшинхо вместе с Канчонмалой темной ночью прыгнул в воду из высокого окна темницы.
Окна моего кабинета выходили на улицу. Вдруг Мини бросила свое «агдум-багдум», подбежала к окну и закричала:
— Кабуливала, эй, кабуливала!
По дороге усталой походкой шел высокий афганец. Одет он был в широкое грязное платье, на голове — чалма, за плечами — мешок, а в руках — штук пять коробов с виноградом. Трудно предположить, какие мысли зародились в головке моей проказницы, когда она позвала его. Я же подумал: «Вот теперь явится это злосчастье с мешком за плечами, и моя семнадцатая глава так и останется незаконченной».
Но когда афганец обернулся на зов Мини и, широко улыбаясь, направился к нашему дому, она со всех ног бросилась на женскую половину. Мини была убеждена, что в мешке у афганца можно обнаружить двух-трех таких же ребятишек, как она, стоит только немного порыться в нем.
Афганец подошел к дому и с улыбкой поклонился мне. Я подумал, что, хотя положение Протапшинхо и Канчонмалы весьма критическое, мне все же следует что-нибудь купить у человека, раз уж его позвали.
Я купил у него немного фруктов. Потом мы побеседовали. Поделились своими соображениями насчет политики Абдур Рахмана{124}, русских, англичан.
Наконец он поднялся, собираясь уходить, и спросил:
— Бабу, а куда убежала твоя дочка?
Я решил рассеять напрасные страхи Мини и позвал ее. Но, прижимаясь ко мне, трусишка подозрительно глядела на афганца и его мешок.
Рохмот достал из мешка горсть кишмиша и сухих абрикосов и протянул ей, но она не взяла угощения, еще подозрительнее посмотрела на него и крепче прижалась к моим коленям. Так состоялось их первое знакомство.
Как-то утром спустя несколько дней я вышел по своим делам из дому. Моя дочурка сидела на скамейке возле двери и оживленно болтала о чем-то. И рядом, на земле, я увидел того афганца; он с улыбкой слушал ее, вставляя время от времени свои замечания на ломаном бенгальском языке. За весь пятилетний жизненный опыт Мини еще не случалось иметь такого терпеливого слушателя, не считая отца. Тут я заметил, что подол ее полон кишмиша и миндаля.
— Зачем ты ей дал это? Больше не делай так, — сказал я афганцу и, вынув из кармана полрупии, протянул ему. Он не смутился, взял деньги и опустил их в мешок.
Вернувшись домой, я увидел, что эти полрупии подняли шум на целую рупию.
Мать Мини держала в руке белый блестящий кружочек и строго спрашивала девочку:
— Где ты взяла эти деньги?
— Кабуливала дал.
— Как ты посмела их взять?
Мини готова была расплакаться.
— Я не брала, он сам дал.
Спасая Мини от грозящей беды, я увел ее из комнаты.
Оказалось, это была не вторая встреча Мини с афганцем. Все это время он приходил почти ежедневно и взятками в виде миндаля и фисташек завоевал ее маленькое жадное сердечко.
Я узнал, что у них были свои забавы и шутки. Так, едва завидев Рохмота, Мини, смеясь, спрашивала его:
— Кабуливала, а кабуливала, что у тебя в мешке?
— Сло-он, — смешно гнусавил Рохмот.
Шутка была немудреная, но обоим становилось весело. Да я и сам радовался, слушая в осенние утра простодушный смех этих двух детей — взрослого и совсем ребенка.
Было у них еще одно развлечение. Рохмот говорил Мини:
— Смотри, малышка, никогда не ходи в дом свекра.
В бенгальских семьях девочки с самых ранних лет приучаются к словам «дом свекра», но мы, люди до некоторой степени современные, не знакомили Мини с этим понятием. Поэтому она не могла уразуметь просьбы Рохмота. Однако не в характере девочки было молчать, когда ее о чем-нибудь спрашивали, и она, в свою очередь, интересовалась:
— А ты пойдешь в дом свекра?
— Я его изобью, — грозил Рохмот воображаемому свекру увесистым кулаком. И, представляя себе, в какое смешное положение попадет незнакомое ей существо, называемое свекром, Мини звонко смеялась.
Осень. Чудесная пора! Цари древности в это время года отправлялись покорять мир. Мне никогда не приходилось выезжать из Калькутты, и я приучил себя мысленно бродить по вселенной. Словно узник, прикованный цепями, я постоянно тосковал до вольному миру. Стоило мне услышать название какой-нибудь страны, как я в мыслях своих переносился туда; стоило повстречать чужестранца, и в воображении моем возникала хижина у реки среди гор и лесов, рисовались картины радостной и привольной жизни.
Но я так привык ко всему, что меня окружало! Казалось, обрушится весь мой небольшой мир, если я покину свой угол. Вот и теперь беседы с афганцем, которые мы вели по утрам в моем маленьком кабинете, вполне заменяли мне путешествия. Низким раскатистым голосом на нескладном бенгальском языке рассказывал он о своей стране; и перед моими глазами, как в калейдоскопе, возникали высокие, почти неприступные горы, бурые, обожженные солнцем; меж волнами этих громад протянулась узкая пустынная дорога, медленно движется по ней караван верблюдов, купцы в тюрбанах и проводники — кто на верблюде, кто пешком, одни с копьями, у других старинные кремневые ружья.