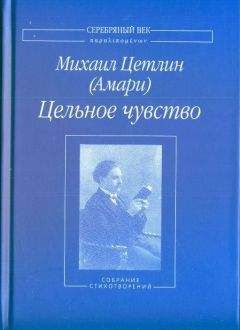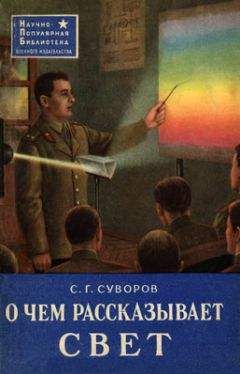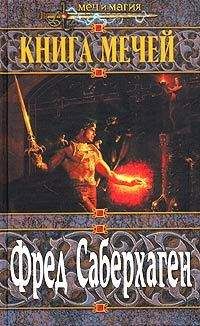Глухие слова (1916)
Третий сборник стихов Амари-Цетлина «Глухие слова (Стихи 1912–1913 г.)» вышел в 1916 г., но не в Париже, где в это время жил Цетлин, а в Москве (в товариществе скоропечатников А.А. Левенсон). Книгу выпустило частное издательство «Зерна», принадлежавшее самому Цетлину[131], который в данном случае выступил издателем своих собственных стихов.
Сборник «Глухие слова» посвящен Марии Самойловне Цетлин[132].
Новая книга стихов Амари-Цетлина была встречена критикой в целом менее сочувственно, нежели предыдущая. Правда, вполне ободряюще прозвучал отзыв Ю. Айхенвальда в «Литературных набросках», в котором говорилось:
<…> Особый тембр в книжке Амари, и автор метко назвал ее «Глухими словами». Не может быть звонкой элегии, а подлинная элегичность отличает эти строки, заражающие своим лиризмом. В них рассказана душа (это не часто бывает в современной поэзии), — душа, вероятно, уже не молодая, и лег на нее свет вечерний, и недаром в переводных стихотворениях откликается она меланхолику Гельдерлину. Амари — не вполне, не совсем поэт; он знает это, он чувствует «боль невоплощения», — но и «коснувшись едва», все-таки оставило на его устах «волненье вдохновенья» несколько мелодичных и грустных слов, и он сумел их красиво произнести. Он — скиталец, может быть, невольный, эмигрант; ему неуютно в мире, «на твердой и земной земле», и нет пристанища для скитальцев «по холодным вокзалам вселенной». Обрывается уже «лет бесцветная нить» и «унылый, бескрылый дух мой никнет к земле, ищет твердой опоры, ищет темной поры… чтобы жить, чтобы плакать, чтоб иметь свой ночлег и в осеннюю слякоть, и в слепительный снег». Тяжелы воспоминания непоправимых ошибок; но все дальше уходит прошлое и никогда не придет будущее; все темнее и полноводнее струятся реки забвенья, и «вот когда и меня унесут эти воды, не будет свиданья, не будет бессмертья, не будет свободы». «Жизнь — скучные стихи, твердимые без чувства наизусть», и сердце хочет, но не умеет молитвы: «О, сердец и душ рыбарь, ты ж когда расставишь сети? Затрепещутся ль как встарь, божьи рыбки, — видишь эти истомленные сердца?» Усталую, безрадостную, нетворческую душу тянет, однако, на родину, под «неяркое русское небо», домой, домой; и хочется увидеть московский монастырь, где схоронен во многом родственный автору Чехов, так повлиявший на него «хрустальной музыкой чеховских слов», — не о нем ли художественно говорит Амари: «Как исследил сердца людские, ты, нежный, тихий человек, всепроникавшим взором Вия, не подымая грустных век?» И соответственной смертью завершится печальная повесть жизни:
Не знаю, как она придет,
В ночной ли тьме, в дневном ли блеске;
Не с легким ветром ли впорхнет.
Чуть шевельнувши занавески;
От книги глаз не подыму,
Ее почуя за спиною,
Но вздрогну, вспомню и пойму
И медленно сухой рукою
Глаза усталые закрою…
«Глухие слова» Амари, такие искренние, такие скорбные, такие струнные, достойны войти и своей нотой в элегическую музыку нашей лирики, в меланхолию русской поэзии[133]…
Однако на фоне революционного подъема и мажора первого сборника Амари «Глухие слова» воспринимались как явление упадническое как по настроению, так и по содержанию. Именно этот — сравнительный — взгляд превалировал в отзыве другого рецензента, Г. Вяткина, который находил в новой книжке отступление от творческих позиций, занятых автором в его первом сборнике:
Поэт, пишущий под псевдонимом Амари, начал свою литературную карьеру в бурный период 1904–1905 гг., начал, нужно сказать, блестяще. Стихи его, преимущественно гражданские, отличались экспрессией, дышали силой и гневом и не однажды с успехом читались с эстрады.
Прошел общественный подъем — завяла и муза Амари. Говорю: «завяла», потому что не хотелось бы сказать: «умерла». Последняя книга его так и называется — «Глухие слова». Автор сознает свою тяжкую усталость, свое творческое бессилие. Все стихи этой книги овеяны тоской, унынием, это отразилось и на их форме — расплывчатой, неуверенной. Есть, однако, в этой печальной, искренней книге одна прекрасная обнадеживающая строфа, которой я и закончу свою заметку:
Говорить придет еще время:
Нужно только слушать, таясь,
Прорастает ли светлое семя,
И носить, как женщинам бремя,
С чем-то тайным темную связь[134].
Примерно о том же шла речь в неопубликованной рецензии К. Липскерова:
Амари <…> сам ясно сознает свое «чахнущее искусство», и несколько примиряет с его книгой то, что к его постоянным жалобам на скуку, на свое равнодушье, на отсутствие «творческой боли» вполне подходит форма его стиха, беспомощная, может быть, преднамеренно[135].
«Ты радость вешняя, ты цвет и прелесть мира…» С. 8. МД: 106 Мария Аркадьевна Беневская (1882–1942), член Боевой организации Верующая христианка, состояла в переписке с Л.Н. Толстым. В первом браке была замужем за «боевиком» Б. Моисеенко. По всей видимости, ее имел в виду А. Ремизов, когда, замечая, что «в каждом городе в своем кругу есть своя “первая красавица”», писал, что в Петербурге в 1905 г. это были Тумаркина и Беневская (Ремизов А. Встречи: Петербургский буерак. Paris: LEV, 1981. С. 16). Входила в группу террористов, занимавшихся подготовкой взрывчатых веществ и разрывных снарядов, которой руководил Л.И. Зильберберг, выданный Азефом и 16 июля 1907 г. повешенный под именем Владимира Штифаря. 15 апреля 1906 г. при подготовке бомбы взорвался запал, и Беневская лишилась кисти левой руки и нескольких пальцев на правой. Похоже, что стихотворение Цетлина связано с этим трагическим происшествием.
«В утро туманное и раннее…» С. 10. В МД: 37 стихотворение представлено в переработанном виде:
В тяжкой скуке ожидая.
На темном и сыром вокзале.
Без раздраженья, без страданья
В холодной мгле, в унылом зале
Слова прощенья и прощанья
Вы сухо, как урок, сказали:
«Что это и мое желанье
И что иначе не могли Вы»…
Не Вас я слушал (знал все ранее!)
Но где-то болью расставанья
Свистящие локомотивы.
«Не связанный в жизни ничем…» С. 11. МД: 32 (без посвящения). Очевидно, стихотворение посвящено Вере Ивановне Рудневой (с типографской опечаткой в инициале отчества: М. вместо И.), жене общественно-политического деятеля, члена партии эсеров, публициста и редактора, друга Цетлина Вадима Викторовича Руднева (1879–1940).
«Хрустальная музыка чеховских слов…» С. 16. Включено в МД: 36 — без первого двустишия, как 2-я часть цикла «Чехову». И увидеть московский монастырь — А.П. Чехов похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.
«Как исследил сердца людские…» С. 17. В МД:36 — как 1-я часть цикла «Чехову». В цитировавшейся выше рецензии Ю. Айхенвальд (см. вступ. заметку) высказал правдоподобную догадку-предположение, что под «нежным, тихим человеком» подразумевается А.П. Чехов.
«Далёко, одна на кладбище, лежишь ты…» С. 19–21. В МД: 39-40-без 2-й строфы и с некоторыми разночтениями. Ведь если надрежем ~ зарастает бесследно — Ср. со стихотворением Амари «У деревьев весною кору надрежь…» (сб. «Лирика»).
«Как дымно дышут дали…» С. 23. МД: 107. Роза Исидоровна Гавронская (урожд. Шабад), жена двоюродного брата Цетлина Якова Осиповича Гавронского (1878–1948). Во время Второй мировой войны погибла в виленском гетто.
«В темной жизни божества…» С. 25. Весенний салон поэтов. М: Зерна, 1918. С. 16. МД: 30.
«Не настало время молиться…» С. 27. Весенний салон поэтов. М.: Зерна, 1918. С. 13 — без посвящения. В МД: 29 — без посвящения и в несколько иной редакции:
Не пришло еще время молиться.
Нет в душе и слов для молитв!
Наша участь — в себя углубиться,
И безропотно ждать и томиться.
Как в предчувствии бурь и битв!
Говорить не пришло еще время.
Наше время слушать, таясь.
Прорастает ли Божье семя?
И носить, как женщинам бремя,
С чем-то тайным темную связь.
Стихотворение посвящено Раисе Исидоровне Фондаминской, родной сестре И.И. Фондаминского. В послесловии уже говорилось о том, что первая буква ее имени «Р» вошла в состав псевдонима Амари. Рецензировавший «Глухие слова» Г. Вяткин привел вторую строфу в качестве «печальной» и «обнадеживающей» (Ежемесячный журнал. 1916. № 7/8. С. 358).
«Не знаю, как она придет…» С. 31. Впервые: Современный мир. 1912. № 7. С. 146; здесь стихотворение имело иную редакцию:
Не знаю, как она придет:
В ночной ли тьме, в дневном ли блеске,
Ныть может, с вечерком впорхнет.
Чуть шевельнувши занавески,
И встанет тихо за спиной,
Я оглянусь — и вот в испуге
Увижу образ неземной
Моей сияющей подруги.
Не знаю, как ее приму:
Со смехом счастья, с воплем муки.
Иль просто тихо я возьму
Ее нетрепетные руки?
И будет слышно в тишине
Н тот миг заветного свершенья.
Когда она придет ко мне.
Лишь сердца тяжкое биенье.
С некоторыми разночтениями вошло в МД: 41.