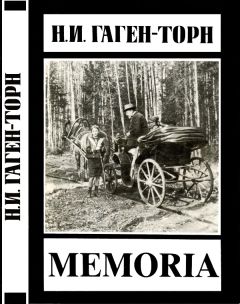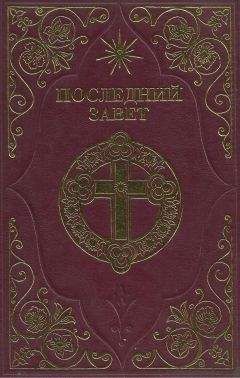Сестрица Аннушка страстно требовала от Бога, чтобы он нас пощадил. Катя Голованова говорила вздыхая:
— Пути Господни неисповедимы!
Те, у кого не было никакой веры, стыли под обломками в тупом страдании. А я? Пытаюсь передать пережитое. Но могу только стихами, в которые оно кристаллизовалось тогда.
Слушаю звезды в ночи.
Долго гляжу на луну.
Только сердце во мне молчит,
Точно окунь идет ко дну.
Чтобы в темной глуби воды,
Где колышется водорослей сад,
Укрываться ему от беды,
Не всплывать, не глядеть назад.
Чтобы в темной глуби души
Не взрывался слепительный свет…
Утомленное сердце страшит
Мерный ход наступающих лет.
Но если крепнет морозный воздух, если вдруг раскрываются внутри какие-то крылья, тогда, стоя рядом с уборной, где мигает тусклая лампочка, освещая чернеющий ряд дыр и серые доски с пятнами хлорки, вдруг чуешь: бесконечное небо, круглоту летящей земли, качающей ветками, голыми, черными у нас, пестрыми лапами пальм за океанами.
Благословенно имя Вселенной!
Благословенен жизни зов!
Кругом идет неизменным
Ход неизвестных миров.
А в сердце, песчинке красной, —
Тот же ответный звон
И звездным стадам безучастным,
И слезным мольбам племен.
Тем, у кого устоявшаяся вера, кто ощущает Вечность доброю няней, на руки которой можно положить свою голову, легче. А у меня? Только неведомое, в которое смотрю. Страстная жажда осознать связь времени с Безвременьем.
Как передать это состояние души? Оно как цветок на лезвии ножа. Как звук, которому не подберешь слова. Но сквозь него приходит освобождение.
Лежу на полу карцера. В случайный и вздорный карцер попала за глупую ссору с надзирателем на поверке.
Тонкий луч прорвался в окошечко. Тишина. И приходит:
Душа моя, вольная птица,
Прорвется в решетку окна,
Распростертому телу приснится,
Как далекое небо клубится,
Ходит солнце у синего дна.
А душа, поднимаясь все выше
В голубой океан без краев,
Неожиданно песней услышит
Шум и шорох идущих веков.
То, что в уши усталого тела
Громыханьем тревоги легло,
Ей покажется облаком белым,
Опустившим свой пар на стекло.
В пене крови клокочущий город,
Гнев и кровь, что рекой потекли,
Станут только рывком дирижера,
Увертюрой грядущей земли.
Легло в слова… Ах, какое это освобождение! Их надо запомнить, они — память пути. Сажусь на полу. Отодвигаюсь от «параши» к окошечку под потолком. Смотрю в небо. Опять ложусь. Звучит малопонятная музыка. Не могу ухватить… Могут те, кто владеет ею, умеет обращаться со звуками, как шаман с духами. Я не умею.
Читала, есть у индусов выражение «свист звезд», это потому, что звук и свет выражают одно и то же… Ощущение необъятности мира достигается при помощи разных органов чувств человеческого тела.
Распластываю тело на полу. Погружаюсь в это ощущение. Только бы не запутаться в нем… Суметь вернуться по ниточке найденных слов. Я, как вон тот паук в углу, выпускаю из себя ниточку и качаюсь на ней, уходя в непередаваемое… Ушла… Возвращение радостное:
В прекрасном странствии моем
Слова, как свежие цветы,
Бросаю в светлый водоем,
И их потом увидишь ты,
Когда их вынесет ручей —
Прозрачной памяти вода…
Но тонкий запах тех полей
Не донести сюда…
Ибо запах этот плохо совместим с парашей… Так завершается приземление. Параша стоит в углу, как монумент, напоминающий, где ты. Но в карцере на этот раз не холодно и не грязно: лето, недавно мыли пол. Это способствует свободе внутренних переживаний.
На меня находит сомнение: стоит ли так подробно писать о личных переживаниях?
— Нужны факты, факты, вопиющие о мести, — сердито требовал один из моих друзей, — не рассуждения, а документы, которые передадут будущим поколениям о страшном зле, совершенном над нами, над сотнями тысяч людей. Интеллигентские переживания — чепуха!
Это правда. Нужны такие документы. Страшным было совершенное в лагерях. Кто передаст всю меру зла?
Еще более страшным оно было в немецких лагерях. То, что у нас проводилось как бредовые рывки, там шло последовательным царством ужаса и зла. Об этом уже написаны книги. Прибавлять ли к ним еще и еще?
Я пытаюсь рассказать, как выныривала из царства зла. Пусть методом выдумок и иллюзий… Но можно ли назвать иллюзией то, что помогало жить?
Иллюзия и реальность смещаемы. Реально то, чем живет человек. Я даю документ не о фактах, а о смещении значимости фактов для человеческой души. О том, как приходило сознание большей реальности духа, чем реальность физическая. У разных людей по-разному вырастала духовная крепость. По-разному строил ее человек. Но ее невозможно отнять, потому что она руками не осязаема. Эти записки — документ о способе сохранить живой душу и о том, как у меня вырастала эта крепость.
Следующим летом вдруг стали приводить лагерь к благолепию: отскребли и вымыли бараки, вышпарили клопов; в амбулатории, полустационаре и больнице повесили марлевые занавески. В КВЧ сделали новый занавес для сцены из старых одеял, раскрашенных художницами. Бригаду садоводов заставили усиленно сажать и поливать цветы. По лагерю поползли «параши»[15] — вместо зеков здесь поселят военные части… Нет, из ООН послан запрос о лагерях. Там хорошо знают, что у нас творится, и вот для опровержения хотят сделать показательный лагерь… Нет, просто собираются создать лагерь для бытовиков, перевоспитательный… А нас?.. Постреляют, наверное… Вряд ли…
Приготовления завершились приездом генерала. Толстый и важный, в сопровождении двух штатских и начальника лаготделения, он обходил серые ряды женщин. В отдалении шли надзиратели.
— Жалобы есть?
Строй молчал. Было ясно и ему, и всем, что в присутствии местного начальства никто не будет жаловаться.
— Вопросы имеются?
Шепот прошел по рядам.
— Вас спрашиваю: есть вопросы?
— Как мне узнать про детей? — прозвучал чей-то голос. — Я здесь больше года и до сих пор ничего не могу узнать о детях.
— Обратитесь в вышестоящие инстанции.
— Писала всюду! Не отвечают, где дети…
— И мне!.. И мне не отвечают, где дети, — послышались голоса.
Генерал поморщился.
— Дети в Советском Союзе обеспечены соответствующими условиями… — сказал он. — Если ваши родные не хотят о них заботиться, государство берет на себя обеспечение детей!
— Хотят, хотят родные — не могут найти детей!
— Пишите в главное управление лагерей, — генерал сделал неопределенный жест штатскому и быстро пошел, уходя от начинающейся в рядах тревоги.
Тревога и возбуждение выплеснули меня.
— Гражданин генерал, — неожиданно для себя окликнула я, — скажите, заключенным разрешается писать?
— Как писать, что писать?
— В царских тюрьмах, как известно, люди занимались самообразованием и писали книги… А в советских разрешается делать записи?
— Вы присланы трудом искупать вину, а не заниматься самообразованием!
— Но это инвалидный лагерь. Производства здесь нет. Могу я, выполнив норму, вместо бездельного сидения на нарах заниматься своим прямым делом?
— Кто вы по специальности?
— Этнограф.
— Нам не нужны такие специалисты. Что вы хотите писать?
— Записи первых научных экспедиций двадцатых годов.
Он сделал неопределенный жест в сторону штатского и прошел дальше. Строй насмешливо смотрел на меня: «Еще чего захотела? Опять карцера?» Я сама понимала бесцельность разговора. Просто захлестнула жажда бессмысленного протеста. Карцер так карцер! Но в лагерях никогда не известно, как обернется.
Месяца через полтора меня вызвали к оперуполномоченному.
— Гаген-Торн?
— Нина Ивановна Гаген-Торн, 1901 год рождения. Срок пять лет, — отрапортовала я, как положено.
— Это ваши тетради?
Захолонуло сердце. Перед ним на столе лежали мои, таинственно исчезнувшие из матраца на 6-м лагпункте тетради. Все! Я узнала их потрепанные серые корочки.
— Мои.
— Вам разрешено продолжать записи. Распишитесь в получении их.
Не веря ушам, я взглянула на него, прямо в спокойные серые глаза. Глаза одобряюще усмехнулись: подвоха нет. Я расписалась, с трудом веря. Взяла тетради, пошла в барак.