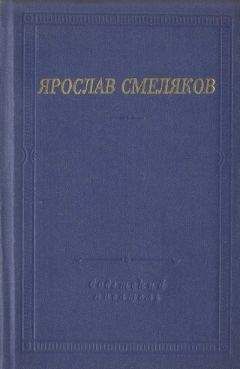178. ПОПЫТКА ЗАВЕЩАНИЯ
Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.
Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.
Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окно.
Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет…
1964
Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье? —
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.
Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.
На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.
Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.
Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.
И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто — на собранье, кто — к детям, кто — попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.
1964
180. «Мальчики, пришедшие в апреле…»
Мальчики, пришедшие в апреле
в шумный мир журналов и газет,
здорово мы всё же постарели
за каких-то три десятка лет.
Где оно, прекрасное волненье,
острое, как потаенный нож,
в день, когда свое стихотворенье
ты теперь в редакцию несешь?
Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,
важно въехав в загородный дом,
стали вроде бы учителями
и советы мальчикам даем.
От меня дорожкою зеленой,
источая ненависть и свет,
каждый день уходит вознесенный
или уничтоженный поэт.
Он ушел, а мне не стало лучше.
На столе — раскрытая тетрадь.
Кто придет и кто меня научит,
как мне жить и как стихи писать?
1964
Я остался и нежным, и резким —
тем, каким меня знали всегда,
но вернулся из дальней поездки
не таким, как уехал туда.
В каждом чуть изменившемся жесте
я невольно ответно сберег
продолжение всех путешествий,
повороты и локти дорог.
Из дорожных моих впечатлений
ничего не пропало вдали,
и на лоб полуясные тени
для других незаметно легли.
Двери в собственный дом открывая,
надевая в передней пальто,
непривычно в себе ощущаю
путешествие дальнее то.
1964
182. «Приезжают в столицу…»
Приезжают в столицу
смиренно и бойко
молодые Есенины
в красных ковбойках.
Поглядите,
оставив предвзятые толки,
как по-детски подрезаны
наглые челки.
Разверните,
хотя б просто так,
для порядка,
их измятые в дальней дороге
тетрадки.
Там
на фоне безвкусицы и дребедени
ослепляющий образ
блеснет на мгновенье.
Там
среди неумелой мороки
вдруг возникнут
почти гениальные строки.
…Пусть придет к ним
потом, через годы, по праву
золотого Есенина
звонкая слава.
«Дай лишь бог, — говорю я,
идя стороною, —
чтобы им
(извините меня за отсталость)
не такою она доставалась ценою,
не такою ценою она доставалась».
1964
Бывают дни без фейерверка,
когда огромная страна
осенним утром на поверке
все называет имена.
Ей нужно собственные силы
ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
разъялась тьма, отверзлась гладь.
Притихла ложь, умолкла злоба,
прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встает из гроба
и отвечает громко: «Здесь!»
О, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!
Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошел.
1964
184. «Ну, а я вот сознаться посмею…»
Ну, а я вот сознаться посмею,
оглянувшись кругом не спеша,
что заметно и грустно старею:
ум и руки, лицо и душа.
За собой замечаю с досадой,
что бываю — так возраст велит —
то добрее, чем это бы надо,
то сердитее, чем надлежит.
Там — устану, а тут — недослышу,
неожиданно дрогнет рука.
Откликается реже и тише
на события жизни строка.
1964
Квадрат зеркальный на подставке,
оправа бедная темна.
Его в какой-то прежней лавке
купила барышня одна.
Напрасно зеркальце мерцало
в ее каморке в полутьме —
она в него гляделась мало,
держа другое на уме.
Не потому, что не любила
лица знакомые черты
иль обаянья мало было
и нехватало красоты.
В нем петербургская курсистка
хранила в грозные года
такого рода переписку,
что пахла каторгой тогда.
Она, оставивши столицу
по обстоятельствам своим,
с ним уезжала за границу
и возвратилась вместе с ним.
В нем было скрыто со стараньем
по воле времени того
к великой партии посланье
от эмигранта одного.
Его тут ждали, словно света,
когда полнеба замело,
и в тот же день посланье это
по всей России потекло.
Не только окна вылетали,
панель хрустела от стекла,
но сталь, дымясь, прошла по стали
и кровь по крови протекла.
Шатались храмы и столицы,
державы падали во тьму —
и надо ж было сохраниться
на память зеркальцу тому.
С тех пор прошли года и годы,
не мимо нас, не стороной.
Уснул всесветный вождь народов,
и нет в живых его связной.
Они покоятся согласно
и друг от друга невдали
под небом облачным и ясным
на площади московской Красной —
на Главной площади земли.
1964
В юности необычной,
вовсе не ради позы,
с грубостью ироничной
я относился к розам.
В залах тогдашних съездов,
в том правовом порядке
были совсем не к месту
эти аристократки.
Мне при моих замашках
и пролетарском стиле
простенькие ромашки
более подходили.
Прошлой весной впервые
я прилетел нежданно
из глубины России
к солнцу Таджикистана.
Утром сквозь сад зеленый,
пенье и воркованье
шел я, ошеломленный
птицами и цветами.
По переулкам вешним
долго ходил, вздыхая,
словно бы мелкий грешник
по филиалу рая.
В щелях любой калитки,
в дворике каждом малом,
в скудности и в избытке
роза благоухала.
В блеске стекла и стали
между асфальтом серым
возле Цека стояли
розовые шпалеры.
И на прилавке даже
в банке из-под варенья
роза — не для продажи,
только для украшенья.
И за стеклом трехтонки
из гаража совхоза,
воткнутая в сторонке,
блекло светилась роза.
Роза в цеху рабочем
и под окном поэта.
Мне приглянулась очень
демократичность эта.
Вскорости между делом
я ощутил неловко:
выдохлась, ослабела
старая установка.
Может быть, мне простится
тихое нарушение
принципов и традиций
грозного поколенья.
Ведь в остальном, ребята,
лозунги нашей Ставки
я соблюдаю свято —
без никакой поправки.
1965