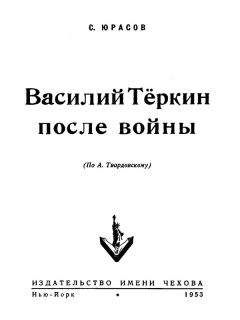Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку,
Зарядим картечью пушку.
Слово "сабантуй" мы с моим товарищем по работе в газете С. Вашенцевым привезли из этой поездки на фронт, и я употребил его в фельетоне, а С. Вашенцев - в очерке, который так и назывался: "Сабантуй".
В первые недели войны я написал как-то фельетон "Дело было спозаранку". Вместе с фельетоном о "сабантуе" и стихотворением "На привале", написанным в начале финской кампании, он послужил впоследствии как бы черновиком к главе "Теркина", также озаглавленной "На привале".
Дело было спозаранку,
Погляжу я...
- Ну и что ж?
- Прут немецких тыща танков.."
- Тыща танков? А не врешь?
- Чтоб я врал тебе, дружище?
- Ты не врешь - язык твой врет,
- Ну, пускай себе не тыща,
Только было штук пятьсот...
Это - рифмованное переложение на фронтовой лад старой побасенки о лжеце со страху, образец той стихотворной импровизации, какая чаще всего выполнялась в один присест, по плану завтрашнего номера газеты. Так делался "Гвоздев" мною с Б. Палийчуком вместе. Затем серия "Про деда Данилу" - мною одним по праву, так сказать, первоавторства, затем серия о немецком солдате - "Вилли Мюллер на востоке", в которой я совсем мало участвовал, переложения популярных песен - "Катюша", "По военной дороге" и иная всевозможная стихотворная мелочь.
Правда, в эти писания западало кое-что из живого изустного солдатского юмора, зарождавшихся и приобретавших широкое распространение словечек и т. п.
Но в целом вся эта работа, подобно "Васе Теркину", далеко не соответствовала возможностям и склонностям ее исполнителей и ими самими считалась не главной, не той, с которой они связывали более серьезные творческие намерения. И в редакции "Красной Армии", как и в свое время в газете "На страже Родины", наряду со всей специальной стихотворной продукцией появлялись стихи поэтов, причастных "Прямой наводке", но уже написанные с установкой на "полную художественность". И странное дело опять же те стихи не имели такого успеха, как "Гвоздев", "Данила" и т. п. А что греха таить - и "Вася Теркин" и "Гвоздев", как и все подобное им во фронтовой печати, писались наспех, небрежно, с такими допущениями в форме стихов, каких ни один из авторов этой продукции не потерпел бы в своих "серьезных" стихах, не говоря уже об общем тоне, манере, рассчитанной как бы не на взрослых грамотных людей, а на некую выдуманную деревенскую массу. Последнее ощущалось все более, и наконец становилось невмоготу говорить таким языком с читателем, которого нельзя было не уважать, не любить. А вдруг остановиться, начать говорить с ним по-другому не было сил, не было времени.
Внутреннее удовлетворение мне больше доставляла работа в прозе - очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Пусть эти короткие, в двести - триста газетных строк, очерки далеко не вмещали всего того, что давало общение с человеком, о котором шла речь, но, во-первых, это было фиксацией живой человеческой деятельности, закреплением реального материала фронтовой жизни, во-вторых, здесь не нужно было шутить во что бы то ни стало, а просто и достоверно излагать на бумаге суть дела, и, наконец, мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, делавшие их подвиги известными всему фронту, заносившие их как бы в некую летопись войны. И если описывался подвиг, или, как тогда говорили, боевой эпизод, где герой погиб, то и тут было важно посвятить его памяти свое описание, лишний раз упомянуть, в печатной строке его имя. Очерки чаще всего и озаглавливались именами бойцов или командиров, боевой работе которых они посвящались: "Капитан Тарасов", "Батальонный комиссар Петр Мозговой", "Красноармеец Сайд Ибрагимов", "Сержант Иван Акимов", "Командир батареи Рагозян", "Сержант Павел Задо-рожный", "Герой Советского Союза Петр Петров", "Майор Василий Архипов" и т. д.
Из стихотворений, написанных в этот период не для отдела "Прямой наводкой", некоторые я до сих пор включаю в новые издания своих книжек. Это "Баллада о Москве", "Рассказ танкиста", "Сержант Василий Мысенков", "Когда ты летишь", "Бойцу Южного фронта", "Дом бойца", "Баллада об отречении" и другие. За каждым из этих стихотворении было памятное до сих пор для меня живое фронтовое впечатление, факт, встреча. Но и в то время я чувствовал, что собственно литературный момент как-то отдалял от читателя реальность и жизненность этих впечатлений, фактов, людских судеб.
Словом, чувство неудовлетворенности всеми видами нашей работы в газете постепенно становилось для меня личной бедой. Приходили мысли и о том, что, может быть, не здесь твое настоящее место, а в строю - в полку, в батальоне, в роте,- где делается самое главное, что нужно делать для Родины.
Зимой 1942 года у нас в редакции возникла мысль расширить отдел "Прямой наводкой" до отдельного еженедельного листка - приложения к газете. Я взялся написать как бы программную передовую в стихах для этого издания, которое, кстати сказать, по разным причинам просуществовало недолго. Вот вступительная часть этого стихотворения:
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под зябким кровом
Лучше нет простой, здоровой,
Прочной пищи фронтовой.
И любой вояка старый
Скажет попросту о ней:
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару
Подобрей, погорячей.
Чтоб она тебя согрела,
Одарила, в кровь пошла,
Чтоб душа твоя и тело
Поднялися вместе смело
На хорошие дела.
Чтоб идти вперед, в атаку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя. Однако
Дело тут не только в щах...
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки.
Шутки самой немудрой...
Перед весной 1942 года я приехал в Москву и, заглянув в свои тетрадки, вдруг решил оживить "Василия Теркина". Сразу было написано вступление о воде, еде, шутке и правде. Быстро дописались главы "На привале", "Переправа", "Теркин ранен", "О награде", лежавшие в черновых набросках. "Гармонь" осталась в основном в том же виде, как была в свое время напечатана. Совсем новой главой, написанной на основе впечатлений лета 1941 года на Юго-Западном фронте, была глава "Перед боем".
Перемещение героя из обстановки финской кампании в обстановку фронта Великой Отечественной войны сообщило ему совсем иное, чем в первоначальном замысле, значение. И это не было механическим решением задачи. Мне уже приходилось говорить в печати о том, что собственно военные впечатления, батальный фон войны 1941-1945 годов для меня во многом были предварены работой на фронте в Финляндии. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первого дня отличила ее от каких бы то ни было иных войн и тем более военных кампаний.
Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределенности жанра, отсутствия первоначального плана, обнимающего все произведение наперед, слабой сюжетной связанности глав между собой. Не поэма - ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета - пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи - некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования - пусть, надо писать о том, что горит, не ждет, а там видно будет, разберемся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную опенку литераторами этой моей работы, - мне стало весело и свободно. Как бы в шутку над самим собой, над своим замыслом я набросал строчки о том, что эта "книга про бойца, без начала, без конца". Действительно, было "сроку мало начинать ее сначала": шла война, и я не имел права откладывать то, что нужно сказать сегодня, немедленно, до того времени, как будет изложено все по порядку, с самого начала.
Почему же без конца?!
Просто жалко молодца.
Мне казалось понятным такое объяснение в обстановке войны, когда конец рассказа о герое мог означать только одно - его гибель. Однако в письмах товарищей, не просто читателей "Теркина", а рассматривающих его, так сказать, в научном плане, было какое-то недоумение по поводу этих строк: не следует ли понимать их как-нибудь иначе? Не следует!
Но не скажу, что вопросы формы моего сочинения так-таки и не волновали меня больше с той минуты, как я отважился писать "без формы", "без начала и конца". Формой я был озабочен, но не той, какая мыслится вообще в отношении, скажем, жанра поэмы, а той, какая была нужна и постепенно в процессе работы угадывалась для этой собственно книги.
И первое, что я принял за принцип композиции и стиля,- это стремление к известной законченности каждой отдельной части, главы, а внутри главы каждого периода, и даже строфы. Я должен был иметь в виду читателя, который хотя бы и незнаком был с предыдущими главами, нашел бы в данной, напечатанной сегодня в газете главе нечто целое, округленное. Кроме того, этот читатель мог и не дождаться моей следующей главы: он был там, где и герой,- на войне. Этой примерной завершенностью каждой главы я и был более всего озабочен. Я ничего не держал про себя до другого раза, стремясь высказаться при каждом случае - очередной главе - до конца, полностью выразить свое настроение, передать свежее впечатление, возникшую мысль, мотив, образ. Правда, этот принцип определился не сразу - после того, как первые главы "Теркина" были напечатаны подряд одна за другой, а новые потом уже появлялись по мере написания. Я считаю, что правильным и во многом определившим судьбу "Теркина" было мое решение печатать первые главы до завершения книги. Читатель мне помог написать эту книгу такой, какова она есть, об этом я еще скажу ниже.