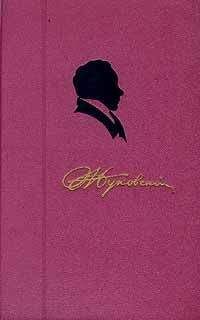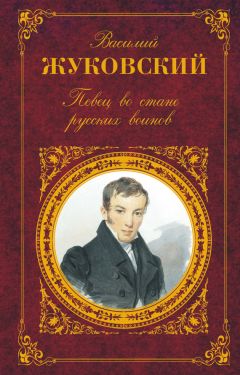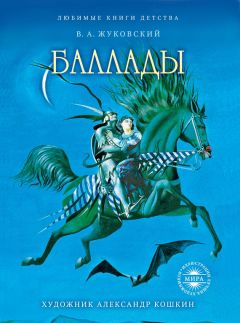Ивиковы журавли*
На Посидонов пир веселый,
Куда стекались чада Гелы*[2]
Зреть бег коней и бой певцов,
Шел Ивик, скромный друг богов.
Ему с крылатою мечтою
Послал дар песней Аполлон:
И с лирой, с легкою клюкою,
Шел, вдохновенный, к Истму он.
Уже его открыли взоры
Вдали Акрокоринф и горы,
Слиянны с синевой небес.
Он входит в Посидонов лес…
Все тихо: лист не колыхнется;
Лишь журавлей по вышине
Шумящая станица вьется
В страны полуденны к весне.
«О спутники, ваш рой крылатый,
Досель мой верный провожатый,
Будь добрым знамением мне.
Сказав: прости! родной стране,
Чужого брега посетитель,
Ищу приюта, как и вы;
Да отвратит Зевес-хранитель
Беду от странничьей главы».
И с твердой верою в Зевеса
Он в глубину вступает леса;
Идет заглохшею тропой…
И зрит убийц перед собой.
Готов сразиться он с врагами;
Но час судьбы его приспел:
Знакомый с лирными струнами,
Напрячь он лука не умел.
К богам и к людям он взывает…
Лишь эхо стоны повторяет —
В ужасном лесе жизни нет.
«И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И не оплакан от друзей;
И сим врагам не будет мщенья,
Ни от богов, ни от людей».
И он боролся уж с кончиной…
Вдруг… шум от стаи журавлиной;
Он слышит (взор уже угас)
Их жалобно-стенящий глас.
«Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову!
Да грянет, привлеченный вами,
Зевесов гром на их главу».
И труп узрели обнаженный:
Рукой убийцы искаженны
Черты прекрасного лица.
Коринфский друг узнал певца.
«И ты ль недвижим предо мною?
И на главу твою, певец,
Я мнил торжественной рукою
Сосновый положить венец».
И внемлют гости Посидона,
Что пал наперсник Аполлона…
Вся Греция поражена;
Для всех сердец печаль одна.
И с диким ревом исступленья
Пританов окружил народ,
И во́пит: «Старцы, мщенья, мщенья!
Злодеям казнь, их сгибни род!»
Но где их след? Кому приметно
Лицо врага в толпе несметной
Притекших в Посидонов храм?
Они ругаются богам.
И кто ж — разбойник ли презренный
Иль тайный враг удар нанес?
Лишь Гелиос то зрел священный,[3]
Все озаряющий с небес.
С подъятой, может быть, главою,
Между шумящею толпою,
Злодей сокрыт в сей самый час
И хладно внемлет скорби глас;
Иль в капище, склонив колени,
Жжет ладан гнусною рукой;
Или теснится на ступени
Амфитеатра за толпой,
Где, устремив на сцену взоры
(Чуть могут их сдержать подпоры),
Пришед из ближних, дальных стран,
Шумя, как смутный океан,
Над рядом ряд, сидят народы;
И движутся, как в бурю лес,
Людьми кипящи переходы,
Всходя до синевы небес.
И кто сочтет разноплеменных,
Сим торжеством соединенных?
Пришли отвсюду: от Афин,
От древней Спарты, от Микин,
С пределов Азии далекой,
С Эгейских вод, с Фракийских гор…
И сели в тишине глубокой,
И тихо выступает хор.[4]
По древнему обряду, важно,
Походкой мерной и протяжной,
Священным страхом окружен,
Обходит вкруг театра он.
Не шествуют так персти чада;
Не здесь их колыбель была.
Их стана дивная громада
Предел земного перешла.
Идут с поникшими главами
И движут тощими руками
Свечи́, от коих темный свет;
И в их ланитах крови нет;
Их мертвы лица, очи впалы;
И свитые меж их власов
Эхидны движут с свистом жалы,
Являя страшный ряд зубов.
И стали вкруг, сверкая взором;
И гимн запели диким хором,
В сердца вонзающий боязнь;
И в нем преступник слышит: казнь!
Гроза души, ума смутитель,
Эринний страшный хор гремит;
И, цепенея, внемлет зритель;
И лира, онемев, молчит:
«Блажен, кто незнаком с виною,
Кто чист младенчески душою!
Мы не дерзнем ему вослед;
Ему чужда дорога бед…
Но вам, убийцы, горе, горе!
Как тень, за вами всюду мы,
С грозою мщения во взоре,
Ужасные созданья тьмы.
Не мните скрыться — мы с крылами;
Вы в лес, вы в бездну — мы за вами;
И, спутав вас в своих сетях,
Растерзанных бросаем в прах.
Вам покаянье не защита;
Ваш стон, ваш плач — веселье нам;
Терзать вас будем до Коцита,
Но не покинем вас и там».
И песнь ужасных замолчала;
И над внимавшими лежала,
Богинь присутствием полна,
Как над могилой, тишина.
И тихой, мерною стопою
Они обратно потекли,
Склонив главы, рука с рукою,
И скрылись медленно вдали.
И зритель — зыблемый сомненьем
Меж истиной и заблужденьем —
Со страхом мнит о Силе той,
Которая, во мгле густой
Скрываяся, неизбежима,
Вьет нити роковых сетей,
Во глубине лишь сердца зрима,
Но скрыта от дневных лучей.
И всё, и всё еще в молчанье…
Вдруг на ступенях восклицанье:
«Парфений, слышишь?.. Крик вдали —
То Ивиковы журавли!..»
И небо вдруг покрылось тьмою;
И воздух весь от крыл шумит;
И видят… черной полосою
Станица журавлей летит.
«Что? Ивик!..» Все поколебалось —
И имя Ивика помчалось
Из уст в уста… шумит народ,
Как бурная пучина вод.
«Наш добрый Ивик! наш сраженный
Врагом незнаемым поэт!..
Что, что в сем слове сокровенно?
И что сих журавлей полет?»
И всем сердцам в одно мгновенье,
Как будто свыше откровенье,
Блеснула мысль: «Убийца тут;
То Эвменид ужасных суд;
Отмщенье за певца готово;
Себе преступник изменил.
К суду и тот, кто молвил слово,
И тот, кем он внимаем был!»
И бледен, трепетен, смятенный,
Незапной речью обличенный,
Исторгнут из толпы злодей:
Перед седалище судей
Он привлечен с своим клевретом;
Смущенный вид, склоненный взор
И тщетный плач был их ответом;
И смерть была им приговор.
Никто не зрел, как ночью бросил в волны
Эдвина злой Варвик;
И слышали одни брега безмолвны
Младенца жалкий крик.
От подданных погибшего губитель
Владыкой признан был —
И в Ирлингфор уже как повелитель
Торжественно вступил.
Стоял среди цветущия равнины
Старинный Ирлингфор,
И пышные с высот его картины
Повсюду видел взор.
Авон, шумя под древними стенами,
Их пеной орошал,
И низкий брег с лесистыми холмами
В струях его дрожал.
Там пламенел брегов на тихом склоне
Закат сквозь редкий лес;
И трепетал во дремлющем Авоне
С звездами свод небес.
Вдали, вблизи рассыпанные села
Дымились по утрам;
От резвых стад равнина вся шумела,
И вторил лес рогам.
Спешил, с пути прохожий совратяся,
На Ирлингфор взглянуть,
И, красотой картин его пленяся,
Он забывал свой путь.
Один Варвик был чужд красам природы:
Вотще в его глазах
Цветут леса, вияся блещут воды,
И радость на лугах.
И устремить, трепещущий, не смеет
Он взора на Авон:
Оттоль зефир во слух убийцы веет
Эдвинов жалкий стон.
И в тишине безмолвной полуночи
Все тот же слышен крик,
И чудятся блистающие очи
И бледный, страшный лик.
Вотще Варвик с родных брегов уходит —
Приюта в мире нет:
Страшилищем ужасным совесть бродит
Везде за ним вослед.
И он пришел опять в свою обитель:
А сладостный покой,
И бедности веселый посетитель,
В дому его чужой.
Часы стоят, окованы тоскою;
А месяцы бегут…
Бегут — и день убийства за собою
Невидимо несут.
Он наступил; со страхом провожает
Варвик ночную тень:
Дрожи! (ему глас совести вещает)
Эдвинов смертный день!
Ужасный день: от молний небо блещет;
Отвсюду вихрей стон;
Дождь ливмя льет; волнами, с воем плещет
Разлившийся Авон.
Вотще Варвик, среди веселий шума,
Цеди́т в бокал вино:
С ним за столом садится рядом Дума, —
Питье отравлено́.
Тоскующий и грозный призрак бродит
В толпе его гостей;
Везде пред ним: с лица его не сводит
Пронзительных очей.
И день угас, Варвик спешит на ложе…
Но и в тиши ночной,
И на одре уединенном то же;
Там сон, а не покой.
И мнит он зреть пришельца из могилы,
Тень брата пред собой;
В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый
И голос гробовой.
Таков он был, когда встречал кончину;
И тот же слышен глас,
Каким молил он быть отцом Эдвину
Варвика в смертный час:
«Варвик, Варвик, свершил ли данно слово?
Исполнен ли обет?
Варвик, Варвик, возмездие готово;
Готов ли твой ответ?»
Воспрянул он — глас смолкнул — разъяренно
Один во мгле ночной
Ревел Авон, — но для души смятенной
Был сладок бури вой.
Но вдруг — и въявь средь шума и волненья
Раздался смутный крик:
«Спеши, Варвик, спастись от потопленья;
Беги, беги, Варвик!»
И к берегу он мчится — под стеною
Уже Авон кипит;
Глухая ночь; одето небо мглою;
И месяц в тучах скрыт.
И молит он с подъятыми руками:
«Спаси, спаси, творец!»
И вдруг — мелькнул челнок между волнами;
И в челноке пловец.
Варвик зовет, Варвик манит рукою —
Не внемля шума волн,
Пловец сидит спокойно над кормою
И правит к брегу челн.
И с трепетом Варвик в челнок садится —
Стрелой помчался он…
Молчит пловец… молчит Варвик… вот, мнится,
Им слышен тяжкий стон.
На спутника уставил кормщик очи:
«Не слышался ли крик?» —
«Нет; просвистал в твой парус ветер ночи, —
Смутясь, сказал Варвик. —
Правь, кормщик, правь, не скоро челн домчится,
Гроза со всех сторон».
Умолкнули… плывут… вот снова, мнится,
Им слышен тяжкий стон.
«Младенца крик! Он борется с волною;
На помощь он зовет!» —
«Правь, кормщик, правь, река покрыта мглою,
Кто там его найдет?»
«Варвик, Варвик, час смертный зреть ужасно;
Ужасно умирать;
Варвик, Варвик, младенцу ли напрасно
Тебя на помощь звать?
Во мгле ночной он бьется меж водами;
Облит он хладом волн;
Еще его не видим мы очами;
Но он… наш видит челн!»
И снова крик слабеющий, дрожащий,
И близко челнока…
Вдруг в высоте рог месяца блестящий
Прорезал облака;
И с яркими слиялася лучами,
Как дым прозрачный, мгла,
Зрят на скале дитя между волнами;
И тонет уж скала.
Пловец гребет; челнок летит стрелою;
В смятении Варвик;
И озарен младенца лик луною;
И страшно бледен лик.
Варвик дрожит — и руку, страха полный,
К младенцу протянул —
И со скалы спрыгнул младенец в волны
К его руке прильнул.
И вмиг… дитя, челнок, пловец незримы;
В руках его мертвец:
Эдвинов труп, холодный, недвижимый,
Тяжелый, как свинец.
Утихло все — и небеса и волны:
Исчез в водах Варвик;
Лишь слышали одни брега безмолвны
Убийцы страшный крик.
Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди*