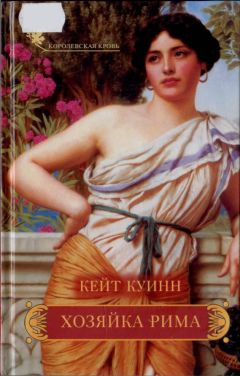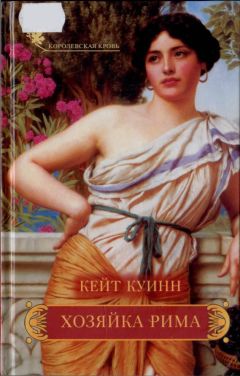«Как я спал на войне…»
Как я спал на войне, в трескотне и в полночной возне,
на войне, посреди ее грозных и шумных владений!
Чуть приваливался к сосне – и проваливался. Во сне
никаких не видал сновидений.
Впрочем, нет, я видал. Я, конечно, забыл – я видал.
Я бросался в траву между пушками и тягачами,
засыпал, и во сне я летал над землею, витал
над усталой землей фронтовыми ночами.
Это было легко – взмах рукой, и другой,
и уже я лечу (взмах рукой!) над лугами некошеными,
над болотной кугой (взмах рукой!), над речною дугой
тихо-тихо скриплю сапогами солдатскими кожаными.
Это было легко. Вышина мне была не страшна.
Взмах рукой, и другой – и уже в вышине этой таешь.
А наутро мой сон растолковывал мне старшина.
– Молодой, – говорил, – ты растешь, – говорил, – оттого и летаешь…
Сны сменяются снами, изменяются с нами.
В мягком кресле с откинутой спинкой и белым чехлом
я дремлю в самолете, смущаемый взрослыми снами
об устойчивой, прочной земле с ежевикой, дождем и щеглом.
С каждым годом сильнее влечет все устойчиво – прочное.
Так зачем у костра-дымокура, у лесного огня,
не забытое мною, но как бы забытое, прошлое
голосами другими опять окликает меня?
Загорелые парни в ковбойках и в кепках, упрямо заломленных,
да с глазами, в которых лесные костры горят,
спят на мягкой траве и на жестких матрацах соломенных,
как убитые спят и во сне над землею парят.
Как летают они! Залетают за облако, тают.
Это очень легко – вышина им ничуть не страшна.
Ты был прав, старшина: молодые растут, оттого и летают.
Лишь теперь мне понятна вся горечь тех слов, старшина!
Что ж я в споры вступаю? Я парням табаку отсыпаю.
Торопливо ломаю сушняк, за водою на речку бегу.
Я в траве молодой (взмах рукой, и другой!)
засыпаю, но уже от земли оторваться никак не могу.
Как части гарнизона,
погибшего за Брест, —
бессменно и бессонно
несут они свой крест.
Без жалобы и вздоха,
грядущему на суд,
тебе на суд, эпоха,
свой крест они несут.
Давно ушли мужчины
от этих берегов.
Оставили морщины.
Оставили врагов.
Оставили негусто,
уйдя в небытие.
Нетленное искусство.
Бессмертие свое…
Бессмертные романы.
Посмертные листы.
А между тем карманы —
пусты они, пусты.
Но вечно ждать готовы —
всё ждут, что позовут, —
седеющие вдовы
надеждою живут.
Всё верят, что воздастся
за совесть и за честь.
Что рукопись издастся,
и смогут все прочесть.
И что один приятель,
им преданный навек,
талантливый ваятель,
но бедный человек,
украсит ту могилу,
тот холмик некрутой,
надгробною фигурой,
гранитною плитой…
Посмертная страница.
Бессмертная строка.
Но все это хранится
в безвестности пока.
Но вечно ждать готовы,
всё ждут, что позовут, —
седеющие вдовы
надеждою живут.
О Живут, свое отплакав.
Глотают стужу ртом.
Платонов и Булгаков,
мы встретимся потом.
Минуты этой ради
хранят они года
те общие тетради
их общего труда.
Хранят светло и нежно,
и всё у них в былом.
Но вера и надежда
сидят за их столом.
Словно книга…
Из старой тетради
Словно книга, до дыр зачитанная,
гимнастерка моя защитная.
Сто логов ее прочитали.
Сто ветров над ней причитали.
Сталь от самого от начала
строчку каждую отмечала.
И остались на ней отметки
то от камня, а то от ветки,
то от проволоки колючей,
то от чьей-то слезы горючей.
А она все живет, не старится.
Я уйду, а она останется,
как та книга, неброско изданная,
но в которой лишь правда истинная,
и суровая, и печальная,
грозным временем отпечатанная.
По лужам бродили, едва лишь снега растаяли.
Равнодушно слушали ручья торопливую речь.
Во семнадцатилетние, воду ни в грош не ставили,
к двадцати годам научились ее беречь.
И бывало невесело безусому воинству.
Дрожал на донышке фляги глоток последний.
Зато научились оценивать по достоинству
и флягу, и реку, и дождик летний…
Рекам студеным, лесным родникам не изменим.
Память о них благодарную сохраняем.
С малой росинкой дружим и каплю ценим.
Слез не роняем на ветер, слез не роняем.
«Обманчива неправды правота…»
Обманчива неправды правота.
Она – как та стоячая вода.
Она прозрачной может быть, о, да,
но течь она не может никуда.
Я эту воду пил. Я молод был.
Была такая жажда у меня!
Она сама приказывала: пей!
Ты не глупей и не умней других.
Скрипел песок на молодых зубах,
и на губах откладывался ил,
но я сквозь марлю воду не цедил,
я чистой находил ее и так.
В ней плавал неба синего кусок.
Он был высок. Он только узок был.
Я честно пил. Немалый срок прошел
все на зубах моих песок скрипит.
«Стало многое изменяться…»
Стало многое изменяться —
видно, было, что изменять.
Стали многие извиняться,
не привыкшие извинять.
Люди сразу и подобрели,
Обретая свои права,
распрямляются,
как в апреле
оживающая
трава.
Стали меркой иною мерить,
без опаски вступают в спор.
Стали больше поэтам верить,
чего не было до сих пор.
И глазами глядят другими
на открывшееся вокруг —
были маленькими такими,
великанами стали вдруг.
Распаляются, как вулканы,
выражают мненья свои…
Ах вы, грозные великаны!
Ах вы, маленькие мои!
«В это жаркое время года…»
В это жаркое время года
слишком тихого дня не жди.
Грозовая стоит погода.
Грозовые идут дожди.
Словно боги под облаками
восседают на облуках.
Стопудовыми каблуками
кто-то топает в облаках.
Я стою под гудящим сводом.
Вышибает из глаз слезу.
Не желаю громоотводом
отводить от себя грозу.
Я на всё, что имею,
годы оставляю вас за собой,
грозовые мои погоды,
воздух утренний грозовой.
Белой молнии отраженье
наполняет мои глаза.
Здравствуй, высшее напряженье
Принимаю тебя, гроза!
«Приближаясь к спокойному устью…»
Узнаю тебя, жизнь, принимаю…
Приближаясь к спокойному устью,
оставляя все дальше исток,
иногда с неосознанной грустью
календарный срываю листок.
Я с непрожитых чисел снимаю
отслужившее службу число,
будто парус рукой поднимаю,
заношу над водою весло.
И несут меня быстрые воды,
только веслами крепче ударь, —
и смещаются даты и годы,
и летит со стены календарь.
Ты узнай меня, мама родная!
Это я, в гимнастерку одет,
прохожу от Днепра до Дуная
и старею на тысячу лет.
Я усы фронтовые не брею.
В них впитался махорочный дым.
Я мужаю, взрослею, старею
и опять становлюсь молодым.
Засыпаю при сполохах красных.
Прохожу в перекрестном огне.
И как будто два возраста разных
по-соседски ужились во мне.
Так живут в сочетании света
и осенней лесной полутьмы
все приметы недавнего лета
и предчувствие близкой зимы.
Будет вьюга. Ах, зимняя вьюга,
у тебя не отнимешь права!
Но за вьюгой, легка и упруга,
пробивается к солнцу трава.
Может, больше мой снег не растает,
но жалеть ни о чем не могу.
Пусть другая трава вырастает,
перед той не оставшись в долгу.
Я глаза к небесам поднимаю.
Заношу над водою весло.
Не тужу ни о чем, понимаю,
по каким меня рекам несло.
«Все сущее мечено временем…»
Все сущее мечено временем. А вот замечается вновь,
что время рифмуется с бременем, с любовью соседствует кровь.
Старинные связи не сломлены и медленно сходят на нет —
так прочно они обусловлены всем опытом прожитых лет.
Нам годы минувшие помнятся, не так наша память слаба.
А все же смотрите, как полнятся значением новым слова.
Иные уходят в предание, иные лишь стали верней.
Я в будущем вижу братание не схожих по виду корней.
Надежными узами связаны, сроднившись на все времена,
там пальмы рифмуются с вязами, с планетою нашей – луна.
И больше не кажется странностью, – то детям известно давно, —
что время рифмуется с радостью, что людям созвучно добро.
«Я хочу доставлять вам радость…»
Я хочу доставлять вам радость.
Ну а как доставлять вам радость?
А может, себя однажды почувствовать почтальоном, несущим тяжелый груз?
И вот я себя однажды почувствовал почтальоном, несущим тяжелый груз.
С грузом моим тащусь по городу, маюсь.
Не на троллейбусе езжу – хожу пешком.
Лифт у вас не работает – я поднимаюсь
на пятый этаж, на десятый этаж пешком.
Моя сумка наполнена вашими адресами.
Поднимаюсь по лестницам, как в заоблачные края.
Ну, а если хотите – приходите на почту сами:
там окошки от А до К и от Л до Я.
Отделеньям связи прикажу, чтоб были готовы.
Никаких чтоб заминок не было и толчеи.
Старенькие матери и солдатские вдовы,
предъявите в окошко просто морщины свои!
А я в этот час по Трубной иду, по Сретенке.
Ноет плечо от кожаного ремня.
И почтовые ящики, эти замкнутые посредники,
смотрят глазами ждущими на меня.
Хлопайте, ящики! Звонки на дверях, звените!
День только начался. Мне ходить еще и ходить.
Порой я еще запаздываю – извините.
Но я постараюсь вовремя приходить.