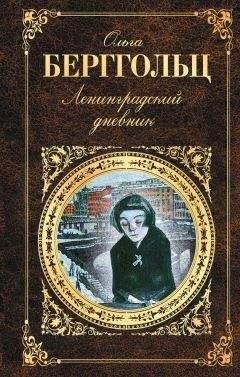Разговор с соседкой
5 декабря 1941 года. Идет четвертый месяц блокады. До пятого декабря воздушные тревоги длились по десять-двенадцать часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба.
Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.
Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа –
наши, Дарья Власьевна, с тобой.
О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба –
он почти не весит на руке…
Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист –
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви…
Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»
Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.
Дарья Власьевна, еще немного,
день придет – над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.
И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.
Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной…
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.
Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.
А тебе – да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.
Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.
Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть – Россия.
Стой же и мужайся, как она!
5 декабря 1941
Мне скажут – Армия…
Я вспомню день – зимой,
январский день сорок второго года.
Моя подруга шла с детьми домой –
они несли с реки в бутылках воду.
Их путь был страшен,
хоть и недалек.
И подошел к ним человек в шинели,
взглянул –
и вынул хлебный свой паек,
трехсотграммовый, весь обледенелый.
И разломил, и детям дал чужим,
и постоял, пока они поели.
И мать рукою серою, как дым,
дотронулась до рукава шинели.
Дотронулась, не посветлев в лице…
Не ведал мир движенья благодарней!
Мы знали всё о жизни наших армий,
стоявших с нами в городе, в кольце.
…Они расстались. Мать пошла направо,
боец вперед – по снегу и по льду.
Он шел на фронт, за Нарвскую заставу,
от голода качаясь на ходу.
Он шел на фронт, мучительно палим
стыдом отца, мужчины и солдата:
огромный город умирал за ним
в седых лучах январского заката.
Он шел на фронт, одолевая бред,
всё время помня – нет, не помня – зная,
что женщина глядит ему вослед,
благодаря его, не укоряя.
Он снег глотал, он чувствовал с досадой,
что слишком тяжелеет автомат,
добрел до фронта и пополз в засаду
на истребленье вражеских солдат…
…Теперь ты понимаешь – почему
нет армии на всей земле любимей,
нет преданней ее народу своему,
великодушней и непобедимей!
Январь 1942
Памяти друга и мужа Николая Степановича Молчанова
Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.
Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.
Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.
И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна – везде и всюду
в твоем последнем пасмурном бреду…
Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила
всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.
На страсть и ревность – пусть придет
другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землей.
Ну что ж, пусть будет так…
Конец января 1942
1Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова,
я тоже – ленинградская вдова.
Мы съели хлеб,
что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном…
И стыли ноги, и томилась свечка.
Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,
похожее на радугу слегка.
Когда немного посветлело небо,
мы вместе вышли за водой и хлебом
и услыхали дальней канонады
рыдающий, тяжелый, мерный гул:
то Армия рвала кольцо блокады,
вела огонь по нашему врагу.
А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина…
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных…
Так с декабря кочуют горожане
за много верст, в густой туманной мгле,
в глуши слепых, обледеневших зданий
отыскивая угол потеплей.
Вот женщина ведет куда-то мужа.
Седая полумаска на лице,
в руках бидончик – это суп на ужин.
Свистят снаряды, свирепеет стужа…
«Товарищи, мы в огненном кольце».
А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтинское кладбище везет.
Везет, качаясь, – к вечеру добраться б…
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин!
Провозят ленинградца,
погибшего на боевом посту.
Скрипят полозья в городе, скрипят…
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев.
Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведет.
О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на Охтинском, на правом берегу.
Как мы в ту ночь молчали, как молчали…
Но я должна, мне надо говорить
с тобой, сестра по гневу и печали:
прозрачны мысли и душа горит.
Уже страданьям нашим не найти
ни меры, ни названья, ни сравненья.
Но мы в конце тернистого пути
и знаем – близок день освобожденья.
Наверно, будет грозный этот день
давно забытой радостью отмечен:
наверное, огонь дадут везде,
во все дома дадут, на целый вечер.
Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце, во мраке, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним,
свободным, щедрым днем,
мы этот день уже завоевали.
Враги ломились в город наш свободный, –
крошились камни городских ворот…
Но вышел на проспект Международный
вооруженный трудовой народ.
Он шел с бессмертным
возгласом в груди:
«Умрем, но Красный Питер
не сдадим!..»
Красногвардейцы, вспомнив о былом,
формировали новые отряды,
и собирал бутылки каждый дом,
и собственную строил баррикаду.
И вот за это долгими ночами
пытал нас враг железом и огнем…
«Ты сдашься, струсишь, – бомбы нам
кричали, –
забьешься в землю, упадешь ничком.
Дрожа, запросят плена, как пощады,
не только люди – камни Ленинграда!»
Но мы стояли на высоких крышах
с закинутою к небу головой,
не покидали хрупких наших вышек,
лопату сжав немеющей рукой.
…Настанет день,
и, радуясь, спеша,
еще печальных не убрав развалин,
мы будем так наш город украшать,
как люди никогда не украшали.
И вот тогда на самом стройном зданье,
лицом к восходу солнца самого
поставим мраморное изваянье
простого труженика ПВО.
Пускай стоит, всегда зарей объятый,
так, как стоял, держа неравный бой:
с закинутою к небу головой,
с единственным оружием – лопатой.
О древнее орудие земное,
лопата,
верная сестра земли!
Какой мы путь немыслимый с тобою
от баррикад до кладбища прошли!
Мне и самой порою не понять
всего, что выдержали мы с тобою…
Пройдя сквозь пытки страха и огня,
мы выдержали испытанье боем.
И каждый, защищавший Ленинград,
вложивший руку в пламенные раны,
не просто горожанин, а солдат,
по мужеству подобный ветерану.
Но тот, кто не жил с нами, – не поверит,
что в сотни раз почетней и трудней
в блокаде, в окруженье палачей
не превратиться в оборотня, в зверя…
………………………………………………………
Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.
И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что как роса сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.
И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть как тень тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.
О да, мы счастье страшное открыли –
достойно не воспетое пока, –
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака;
когда вели полночные беседы
у бедного и дымного огня,
как будем жить,
когда придет победа,
всю нашу жизнь по-новому ценя.
И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
как полдень жизни, будешь вспоминать
дом на проспекте Красных Командиров,
где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод.
Ликуя, плача, сердце позовет
и эту тьму, и голос мой, и холод,
и баррикаду около ворот.
Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда!
Да здравствует суровый и спокойный,
глядевший смерти в самое лицо,
удушливое вынесший кольцо
как Человек,
как Труженик,
как Воин!
Сестра моя, товарищ, друг и брат,
ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют – Ленинград,
и шар земной гордится Ленинградом.
Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце и стуже, в голоде, в печали,
мы дышим завтрашним,
счастливым, щедрым днем –
мы сами этот день завоевали.
И ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.
Мы выйдем без цветов,
в помятых касках,
в тяжелых ватниках, в промерзших
полумасках,
как равные, приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая Слава,
держа венок в обугленных руках.
Январь – февраль 1942