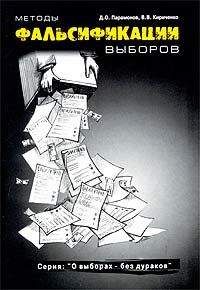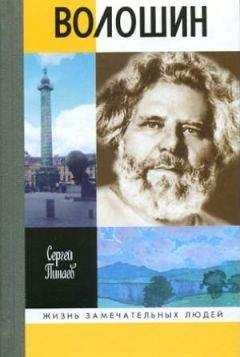Положение было у нас настолько парадоксальное, что советская власть в городе была крайне правой партией порядка. Во главе Совета стоял портовый рабочий — зверь зверем, — но, когда пьяные матросы с «Фидониси» потребовали устройства немедленной резни буржуев, он нашел для них слово, исполненное неожиданной государственной мудрости: «Здесь буржуи мои, и никому чужим их резать не позволю», установив на этот вопрос совершенно правильную хозяйственно-экономическую точку зрения. И едва ли не благодаря этой удачной формуле Феодосия избегла своей Варфоломеевской ночи.
В те дни в Феодосию прибыло турецкое посольство и привезло с собою тяжелораненых военнопленных. Совет устроил банкет — не военнопленным, умиравшим от голоду, а турецкому посольству. Произносились политические речи, один за другим вставали ораторы и говорили: «Передайте турецкому пролетариату и вашей молодежи… Социальная республика… Да здравствует Третий Интернационал!»
После каждой речи вставал почтенный турок в мундире, увешанном орденами, и вежливо отвечал одними и теми же словами: «Мы видим, слышим, понимаем… и обо всем, что видели и слышали, с отменным чувством передадим Его Величеству — Султану».
Между тем борьба с анархистами шла довольно успешно, и однажды феодосийцы могли прочесть на стенах трогательное воззвание: «Товарищи! Анархия в опасности: спасайте анархию!» Но на следующий же день на тех же местах висело уже мирное объявление: «Революционные танц-классы для пролетариата. Со спиртными напитками».
Анархия была раздавлена. Но помню еще одну запоздалую партию анархистов, прибывшую из Одессы, уже занятой немцами. Они выстроились на площади с огромным черным знаменем, на котором было написано: «Анархисты-Террористы». Вид они имели грозный, вооружены до зубов, каждый с двумя винтовками, с ручными гранатами у пояса. Одна знакомая по какой-то совершенно непонятной интуиции подошла к правофланговому и спросила: «Sind Sie Deutsche?» — «О ja, ja! Wir sind die Freunde!».[14] Через несколько дней германские войска заняли город.
Таковы были комические и бытовые гримасы тех дней, но они только углубляли трагические впечатления и патетические переживания тех дней, которые я старался передать в стихотворении:
Молитва о городе
(Феодосия — весной 1918 г.)
С.А. Толузакову
И скуден, и неукрашен
Мой древний град
В венце генуэзских башен,
В тени аркад;
Среди иссякших фонтанов,
Хранящих герб
То дожей, то крымских ханов:
Звезду и серп;
Под сенью тощих акаций
И тополей,
Средь пыльных галлюцинаций
Седых камней,
В стенах церквей и мечетей
Давно храня
Глухой перегар столетий
И вкус огня;
А в складках холмов охряных —
Великий сон:
Могильники безымянных
Степных племен;
А дальше — зыбь горизонта
И пенный вал
Негостеприимного Понта
У желтых скал.
Войны, мятежей, свободы
Дул ураган;
В сраженьях гибли народы
Далеких стран;
Шатался и пал великий
Имперский столп;
Росли, приближаясь, клики
Взметенных толп;
Суда бороздили воды,
И борт о борт
Заржавленные пароходы
Врывались в порт;
На берег сбегали люди,
Был слышен треск
Винтовок и гул орудий,
И крик, и плеск,
Выламывали ворота,
Вели сквозь строй,
Расстреливали кого-то
Перед зарей.
Блуждая по перекресткам,
Я жил и гас
В безумьи и в блеске жестком
Враждебных глаз;
Их горечь, их злость, их муку,
Их гнев, их страсть,
И каждый курок, и руку
Хотел заклясть.
Мой город, залитый кровью
Внезапных битв,
Покрыть своею любовью,
Кольцом молитв,
Собрать тоску и огонь их
И вознести
На распростертых ладонях:
Пойми… прости!
Среди тех, чью руку хотелось удержать тогда, выделялись два типа, которые оба уже отошли теперь в историческое прошлое: это тип красногвардейца и тип матроса. Личины их я зарисовал позже, уже в 19-м году, при втором нашествии большевиков, но наблюдены и задуманы они были тою весной («Красногвардеец», «Матрос», «Спекулянт», «На вокзале»).
Красногвардеец
(1917)
(Тип разложения старой армии)
Скакать на красном параде
С кокардой на голове
В расплавленном Петрограде,
В революционной Москве.
В бреду и в хмельном азарте
Отдаться лихой игре,
Стоять за Родзянку в марте,
За большевиков в октябре.
Толпиться по коридорам
Таврического дворца,
Не видя буржуйным спорам
Ни выхода, ни конца.
Оборотиться к собранью,
Рукою поправить ус,
Хлестнуть площадною бранью,
На ухо заломив картуз.
И, показавшись толковым, —
Ввиду особых заслуг
Быть посланным с Муравьевым
Для пропаганды на юг.
Идти запущенным садом.
Щупать замок штыком.
Высаживать дверь прикладом.
Толпою врываться в дом.
У бочек выломав днища,
В подвал выпускать вино,
Потом подпалить горище
Да выбить плечом окно.
В Раздельной, под Красным Рогом
Громить поместья — и прочь
В степях по грязным дорогам
Скакать в осеннюю ночь.
Забравши весь хлеб, о «свободах»
Размазывать мужикам.
Искать лошадей в комодах
Да пушек по коробкам.
Палить из пулеметов:
Кто? С кем? Да не всё ль равно?
Петлюра, Григорьев, Котов,
Таранов или Махно…
Слоняться буйной оравой.
Стать всем своим невтерпеж —
И умереть под канавой
Расстрелянным за грабеж.
Широколиц, скуласт, угрюм,
Голос осипший. Тяжкодум,
В кармане — браунинг и напилок,
Взгляд мутный, злой, как у дворняг,
Фуражка с лентою «Варяг»,
Сдвинутая на затылок.
Татуированный дракон
Под синей форменной рубашкой,
Браслеты, в перстне кабошон,
И красный бант с алмазной пряжкой.
При Керенском, как прочий флот,
Он был правительству оплот,
И Баткин был его оратор,
Его герой — Колчак. Когда ж
Весь черноморский экипаж
Сорвал приезжий агитатор,
Он стал большевиком. И сам
На мушку брал да ставил к стенке,
Топил, устраивал застенки,
Ходил к кавказским берегам
С «Пронзительным» и с «Фидониси»,
Ругал царя, грозил Алисе;
Входя на миноноске в порт,
Кидал небрежно через борт:
«Ну как? Буржуи ваши живы?»
Устроить был всегда непрочь
Варфоломеевскую ночь,
Громил дома, ища поживы,
Грабил награбленное, пил,
Швыряя керенки без счета,
И вместе с Саблиным топил
Последние остатки флота.
Так целый год прошел в бреду…
Теперь, вернувшись в Севастополь,
Он носит красную звезду
И, глядя вдаль на пыльный тополь,
На Инкерманский известняк,
На мертвый флот, на красный флаг,
На илистые водоросли
Судов, лежащих на боку, —
Угрюмо цедит земляку:
«Возьмем Париж… весь мир… а после
Передадимся Колчаку».
Кишмя кишеть в кафе у Робина,
Шнырять в Ростове, шмыгать по Одессе,
Кипеть на всех путях, вползать сквозь все затворы,
Менять все облики,
Все масти, все оттенки,
Быть торговцем, попом и офицером,
То русским, то германцем, то евреем,
При всех режимах быть неистребимым,
Всепроникающим, всеядным, вездесущим,
Жонглировать то совестью, то ситцем,
То спичками, то родиной, то мылом,
Творить известья, зажигать пожары,
Бунты и паники; одним прикосновеньем
Удорожать в четыре, в сорок, во сто,
Пускать под небо цены, как ракеты,
Сделать в три дня неуловимым,
Неосязаемым тучнейший урожай,
Владеть всей властью магии:
Играть на бирже
Землей и воздухом, водою и огнем;
Осуществить мечту о превращеньи
Веществ, страстей, программ, событий, слухов
В золото, а золото — в бумажки,
И замести страну их пестрою метелью,
Рождать из тучи град золотых монет,
Россию превратить в быка,
Везущего Европу по Босфору,
Осуществить воочью
Все россказни былых метаморфоз,
Все таинства божественных мистерий,
Пресуществлять за трапезой вино и хлеб
Мильонами пудов и тысячами бочек —
В озера крови, в груды смрадной плоти,
В два года распродать империю,
Замызгать, заплевать, загадить, опозорить,
Кишеть, как червь, в ее разверстом теле,
И расползтись, оставив в поле кости
Сухие, мертвые, ошмыганные ветром.
В мутном свете увялых
Электрических фонарей
На узлах, тюках, одеялах
Средь корзин, сундуков, ларей,
На подсолнухах, на окурках,
В сермягах, шинелях, бурках,
То врозь, то кучей, то в ряд,
На полу, на лестницах —
спят:
Одни — раскидавшись — будто
Подкошенные на корню,
Другие — вывернув круто
Шею, бедро, ступню.
Меж ними бродит зараза
И отравляет их кровь:
Тиф, холера, проказа,
Ненависть и любовь.
Едят их поедом жадным
Мухи, москиты, вши.
Они задыхаются в смрадном
Испареньи тел и души.
Точно в загробном мире,
Где каждый в себе несет
Противовесы и гири
Дневных страстей и забот.
Так спят они по вокзалам,
Вагонам, платформам, залам,
По рынкам, по площадям,
У стен, у отхожих ям:
Беженцы из разоренных,
Оголодавших столиц,
Из городов опаленных,
Деревень, аулов, станиц,
Местечек, — тысячи лиц…
И социальный Мессия,
И баба с кучей ребят,
Офицер, налетчик, солдат,
Спекулянт, мужики —
вся Россия.
Вот лежит она, распята сном,
По вековечным излогам,
Расплесканная по дорогам,
Искусанная огнем,
С запекшимися губами,
В грязи, в крови и во зле,
И ловит воздух руками,
И мечется по земле.
И не может в бреду забыться,
И не может очнуться от сна…
Не всё ли и всем простится,
Кто выстрадал, как она?
И вот, несмотря на все отчаяние и ужас, которыми были проникнуты те месяцы, в душе продолжала жить вера в будущее России, в ее предназначенность.