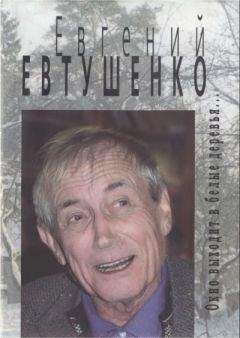ДАЙ БОГ!
Дай Бог, слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай Бог, быть Богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.
Дай Бог, не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.
Дай Бог, быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.
Дай Бог, поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай Бог, побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
Дай Бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай Бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.
Дай Бог, лжецам замкнуть уста,
глас Божий слыша в детском крике.
Дай Бог, живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лике.
Не крест — бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай Бог, ну хоть немного Бога!
Дай Бог, всего, всего, всего,
и сразу всем — чтоб не обидно…
Дай Бог, всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.
1989
Написано в Киеве после заседания украинской Рады, полного взаимоозлобленности депутатов, когда я почувствовал, как хрупка эта громада, называемая СССР.
Смертельна половинчатость порывов.
Когда, узду от ужаса грызя,
мы прядаем, все в мыле, у обрывов,
то полуперепрыгнуть их нельзя.
Тот слеп, кто пропасть лишь полуувидел.
Не полупяться, в трех соснах кружа,
полумятежник, полуподавитель
рожденного тобою мятежа.
При каждой полумере полугодной
полународ остатний полурад.
Кто полусытый — тот полуголодный,
полусвободный — это полураб.
Полубоимся, полубезобразим.
Немножко тот, а все же полутот —
партийный слабовольный Стенька Разин
полуидет на полуэшафот.
Определенность фронда потеряла.
Нельзя, шпажонкой попусту коля,
быть и полугвардейцем кардинала,
и полумушкетером короля.
Неужто полу-Родина возможна
и полусовесть может быть в чести?
Свобода половинная — острожна,
и Родину нельзя полуспасти.
1989
Что попрошу я у людей
прекрасных или не прекрасных:
не надо больше нам вождей.
Есть вождь у нас, да только распят.
И, вызывая чей-то смех,
каким смеяться не пристало,
еще я попрошу у всех:
не надо, чтоб меня не стало.
Я потихонечку молюсь,
заблудший, обо всех заблудших,
а сам растаять так боюсь,
как в свете дня рассветный лучик.
Вцепляясь в свежую траву,
шепчу с надеждой всем и всюду:
я просто не переживу того,
что я живым не буду.
И не прошу я ничего —
ни орденов, ни пьедестала,
за исключеньем одного —
не надо, чтоб меня не стало.
Как пахнет старая тетрадь
с забытым лепестком жасмина.
Всего ужасней потерять
и красоту, и ужас мира.
Забыть о смертных — смертный грех.
Смерть, от людей бы ты отстала.
Не надо, чтоб не стало всех.
Не надо, чтоб меня не стало.
1990
Стихотворение основано, с ее разрешения, на двух очень мне понравившихся строчках самодеятельной поэтессы — Л. Евстратовой, сестры актрисы С. Евстратовой, сыгравшей главную роль в фильме «Детский сад».
«Зазвенели бубенчики хмеля…»
Зазвенели бубенчики хмеля,
как в чешуйках зеленая медь,
ну а что назвенеть не сумели,
я сумею один дозвенеть.
Во вселенную или в пылинку
человек для того и вроднен,
чтоб добавить хотя бы звенинку
в перезвоне пасхальном времен.
Я люблю запах ландышей в соснах,
запах так молодого сенца,
и танцующий медленно воздух
возле так дорогого лица.
Млечный запах ребенка прекрасен,
потому что он смешан без слов
с вифлеемским дыханием ясель
и смущенным дыханьем волхвов.
Слишком поздно пришло к нам,
калекам, понимание смысла креста.
Может назван ли быть человеком тот,
в ком нет ничего от Христа?
Пригвождали ладони мы людям
(крепче не было в мире гвоздей)[7].
Разве можно с таким правосудьем
верить в Бога, не веря в людей?
С человечеством так я условлюсь:
равнодушие к родине — грех,
но превыше, чем родина — совесть,
как единая родина всех.
Зазвенели бубенчики хмеля,
будто где-то по краю земли
в несуразной алмазной метели
невидимками тройки прошли.
Я врагам своим весь не достанусь,
почитателям тоже не весь.
Бубенцом-невидимкой останусь
в нашем здесь и далеком нездесь.
Вдоль зареванных русских околиц,
размалеванных авеню,
как расколотый колоколец,
что-то нежное я прозвеню.
Упадет, как монетка-блестинка,
прокатясь по лесам и степям,
извинительная звенинка
к твоим легким летучим стопам.
Мне, как видите, надо так много,
потому умирать не спешу,
но чем больше я верую в Бога,
тем все меньше у Бога прошу.
1990
Черной смородины черные очи,
будто сгущенные капельки ночи,
смотрят и спрашивают безотчетно
или о ком-то, или о чем-то.
Выклюет дрозд-попрыгунчик проворный
черные очи смородины черной,
но сохраняют завертины омута
память о ком-то или о чем-то.
Не заходите в память любимых.
Бойтесь вы омутов этих глубинных.
Даже не ты — твоя старая кофта
помнит о чем-то или о ком-то.
И после смерти хотел бы я честно
жить в тебе вечно не кем-то, а чем-то,
напоминая, как грань горизонта,
только о чем-то, только о чем-то…
1991
Не хочется менять постели
той, на которой ты спала,
и проступает еле-еле
на простыне твоя спина.
Твой самолет над Машуком,
а одеяло дышит мятою,
и я целую ямку,
вмятую
вдаль улетевшим локотком.
Постель,
союзница-колдунья
двух тел —
двух слитков полнолунья,
хоть очертания любимой
восстанови
и светом вымой!
Постель,
наш добрый ангел белый,
ты из шуршанья шепот сделай,
дай мне с прозрачного виска
хоть золотинку завитка,
а из морщинок простыни
заколку,
что ли,
протяни.
Любимая,
ты в облаках,
но тень твоя в моих руках.
Твой тапочек скулит в саду,
но на подушке,
как смородинку,
тобой уроненную родинку
я утром все-таки найду.
1991
Усни,
принцесса на горошине,
в сны очарованно всмотрясь.
А может быть,
была подброшена
жемчужина под твой матрас.
Усни,
принцесса на горошине.
Себе заметить не позволь,
что болью стала так непрошено
воображаемая боль.
Усни,
принцесса на горошине,
не на перинах-облаках,
а на ножах,
на оговорщине,
на раскаленных угольках.
Договоримся по-хорошему —
ты не одна,
а ты со мной.
Усни,
принцесса на горошине,
которой стал весь шар земной.
1991