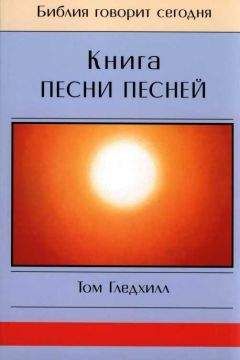1909
«Она говорила: Любимый, любимый…»
Она говорила: «Любимый, любимый,
Ты болен мечтою, ты хочешь и ждешь,
Но память о прошлом, как ратник незримый,
Взнесла над тобой угрожающий нож.
О чем же ты грезишь с такою любовью,
Какую ты ищешь себе Госпожу?
Смотри, я прильну к твоему изголовью
И вечные сказки тебе расскажу.
Ты знаешь, что женское тело могуче,
В нем радости всех неизведанных стран,
Ты знаешь, что женское сердце певуче,
Умеет целить от тоски и от ран.
Ты знаешь, что, робко себя сберегая,
Невинное тело от ласки тая,
Тебя никогда не полюбит другая
Такой беспредельной любовью, как я».
Она говорила, но, полный печали,
Он думал о тонких руках, но иных;
Они никогда никого не ласкали,
И крестные язвы застыли на них.
1909
«Нет тебя тревожней и капризней…»
Нет тебя тревожней и капризней,
Но тебе предался я давно
Оттого, что много, много жизней
Ты умеешь волей слить в одно.
И сегодня… Небо было серо,
День прошел в томительном бреду.
За окном, на мокром дерне сквера
Дети не играли в чехарду.
Ты смотрела старые гравюры,
Подпирая голову рукой,
И смешно-нелепые фигуры
Проходили скучной чередой.
«Посмотри, мой милый, видишь — птица,
Вот и всадник, конь его так быстр,
Но как странно хмурится и злится
Этот сановитый бургомистр!»
А потом читала мне про принца,
Был он нежен, набожен и чист,
И рукав мой кончиком мизинца
Трогала, повертывая лист.
Но когда дневные смолкли звуки
И взошла над городом луна,
Ты внезапно заломила руки,
Стала так мучительно бледна.
Пред тобой смущенно и несмело
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая пела
И тебе о рае золотом.
<1910?>
«Аддис-Абеба, город роз…»
Аддис-Абеба, город роз.
На берегу ручьев прозрачных,
Небесный див тебя принес,
Алмазный, средь ущелий; мрачных.
Армидин сад… Там пилигрим
Хранит обет любви неясной.
Мы все склоняемся пред ним,
А розы душны, розы красны.
Там смотрит в душу чей-то взор,
Отравы полный и обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных платанов.
<1911>
Я молчу — во взорах видно горе,
Говорю — мои слова так злы,
Ах, когда ж я вновь увижу в море
Синие и пенные валы.
Белый парус, белых, белых чаек
Или ночью длинный лунный мост,
Позабыв о прошлом и не чая
Ничего в грядущем, кроме звезд!
Видно, я суровому Нерею
Смог когда-то очень угодить,
Что теперь — его, и не умею
Ни полей, ни леса полюбить.
Я томлюсь, мне многого не надо,
Только — моря с четырех сторон.
Не была ль сестрою мне наяда,
Нежным братом лапчатый тритон?
Боже! Будь я самым сильным князем,
Но живи от моря вдалеке,
Я б, наверно, повалившись наземь,
Грыз ее и бил в глухой тоске!
<1911>
«Все ясно для тихого взора…»
Все ясно для тихого взора:
И царский венец, и суму,
Суму нищеты и позора, —
Я все беспечально возьму.
Пойду я в шумящие рощи,
В забытый хозяином сад,
Чтоб ельник, корявый и тощий,
Внезапно обрадовал взгляд.
Там брошу лохмотья и лягу
И буду во сне королем,
А люди увидят бродягу
С бескровно-землистым лицом.
Я знаю, что я зачарован
Заклятьем сумы и венца,
И если б я был коронован,
Мне снилась бы степь без конца.
<1911>
Месяц встал; ну что ж, охота?
Я сказал слуге: «Пора!
Нынче ночью у болота
Надо выследить бобра».
Но, осклабясь для ответа,
Чуть скрывая торжество,
Он воскликнул: «Что ты, гета[1],
Завтра будет Рождество.
И сегодня ночью звери:
Львы, слоны и мелкота —
Все придут к небесной двери,
Будут радовать Христа.
Ни один из них вначале
На других не нападет,
Не укусит, не ужалит,
Не лягнет и не боднет.
А когда, людьми не знаем,
В поле выйдет Светлый Бог,
Все с мычаньем, ревом, лаем
У его столпятся ног.
Будь ты зрячим, ты б увидел
Там и своего бобра,
Но когда б его обидел,
Мало было бы добра».
<1911>
Когда я был влюблен (а я влюблен
Всегда — в идею, женщину иль запах),
Мне захотелось воплотить мой сон,
Причудливей, чем Рим при грешных папах.
Я нанял комнату с одним окном,
Приют швеи, иссохшей над машинкой,
Где, верно, жил облезлый старый гном,
Питавшийся оброненной сардинкой.
Я стол к стене подвинул; на комод
Рядком поставил альманахи «Знанье»,
Открытки — так, чтоб даже готтентот
В священное б пришел негодованье.
Она вошла спокойно и светло,
Потом остановилась изумленно.
От ломовых в окне тряслось стекло,
Будильник тикал злобно-однотонно.
И я сказал: «Царица, вы одни
Сумели воплотить всю роскошь мира;
Как розовые птицы ваши дни,
Влюбленность ваша — музыка клавира.
Ах! Бог Любви, заоблачный поэт,
Вас наградил совсем особой меткой,
И нет таких, как вы…» Она в ответ
Задумчиво кивала мне эгреткой.
Я продолжал (и резко за стеной
Звучал мотив надтреснутой шарманки):
«Мне хочется увидеть вас иной,
С лицом забытой Богом гувернантки;
И чтоб вы мне шептали: „Я твоя“,
Или еще: „Приди в мои объятья“.
О, сладкий холод грубого белья,
И слезы, и поношенное платье.
А уходя, возьмите денег: мать
У вас больна иль вам нужны наряды…
Мне скучно все, мне хочется играть
И вами, и собою — без пощады…»
Она, прищурясь, поднялась в ответ;
В глазах светились злоба и страданье:
«Да, это очень тонко, вы поэт,
Но я к вам на минуту… до свиданья!»
Прелестницы, теперь я научен.
Попробуйте прийти, и вы найдете
Духи, цветы, старинный медальон,
Обри Бердслея в строгом переплете.
<1911>
«Вечерний медленный паук…»
Вечерний медленный паук
В траве сплетает паутину, —
Надежды знак. Но, милый друг,
Я взора на него не кину.
Всю обольстительность надежд,
Не жизнь, а только сон о жизни,
Я оставляю для невежд,
Для сонных евнухов и слизней.
Мое «сегодня» на мечту
Не променяю я и знаю,
Что муки ада предпочту
Лишь обещаемому раю, —
Чтоб в час, когда могильный мрак
Вольется в сомкнутые вежды,
Не засмеялся мне червяк,
Паучьи высосав надежды.
1911
«Какою музыкой мой слух взволнован?…»
Какою музыкой мой слух взволнован?
Чьим странным обликом я зачарован?
Душа прохладная, теперь опять
Ты мне позволила желать и ждать.
Душа просторная, как утром даль,
Ты убаюкала мою печаль.
Ее, любившую дорогу в храм,
Сложу молитвенно к твоим ногам.
Все, все, что искрилось в моей судьбе,
Все, все пропетое — тебе, тебе!
<1911>