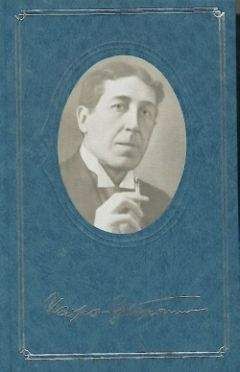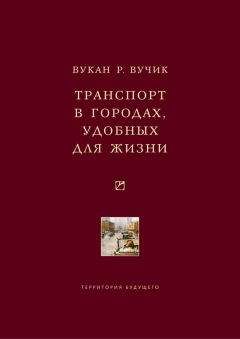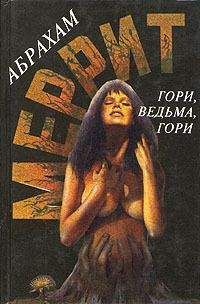Георгию Шенгели
Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставай за дирижерский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты — Аполлона строгий культ!
В твоем оркестре мало скрипок:
В нем все корнеты-а-пистон.
Ищи средь нотных белых кипок
Тетрадь, где — смерть и цепий стон!
Ведь так ли, иначе (иначе?…)
Контрастней раков и стрекоз,
Сойдемся мы в одной задаче:
Познать непознанный наркоз…
Ты, завсегдатай мудрых келий,
Поющий смерть, и я, моряк,
Пребудем в дружбе: нам, Шенгели,
Сужден везде один маяк.
Финал («Закончен том, но не закончен…»)
Закончен том, но не закончен
Его раздробленный сюжет.
Так! с каждою главою звонче
Поет восторженный поэт.
Напрасно бы искать причала
Для бесшабашного певца:
В поэме жизни нет начала!
В поэме жизни нет конца!
Неисчерпаемая тема
Ждет всей души, всего ума.
Поэма жизни — не поэма:
Поэма жизни — жизнь сама!
Поэзы 1918–1919 гг.
Все поэзы этого тома, за исключением помеченных 1918 г., написаны в январе 1919 г., причем написаны в Эстонии, на курорте Тойла. Поэза «Музе музык» написана в Ревеле.
Интродукция («Вервэна, устрицы и море…»)
Вервэна, устрицы и море,
Порабощенный песней Демон —
Вот книги настоящей тема,
Чаруйной книги о святом Аморе.
Она, печалящая ваши грезы,
Утонченные и бальные,
Приобретает то льняные,
То вдруг стальные струнные наркозы.
Всмотритесь пристальнее в эти строки:
В них — обретенная утрата.
И если дух дегенерата
В них веет, помните: всему есть сроки.
О, замороженные льдом,
Вы, под олуненным лимоном,
Своим муарным перезвоном
Заполонившие мой дом,
Зеленоустрицы, чей писк
И моря влажно-сольный запах, —
В оттенках всевозможных самых —
Вы, что воздвигли обелиск
Из ваших раковин, — мой взор,
Взор вкуса моего обнищен:
Он больше вами не насыщен, —
Во рту растаял ваш узор…
Припоминаю вас с трудом,
Готовый перерезать вены,
О, с лунным запахом вервэны,
Вы, замороженные льдом!
Ликер из вервэны — грёзерки ликер,
Каких не бывает на свете,
Расставил тончайшие сети,
В которые ловит эстетов — Амор
Искусно.
Луною, наполнен сомнамбул фужер
И устричным сердцем, и морем.
И тот, кто ликером аморим,
Тому орхидейное нежит драже
Рот вкусно.
Уста и фужер сетью струн сплетены,
При каждом глотке чуть звенящих,
Для нас — молодых, настоящих, —
Для нас, кто в Сейчас своего влюблены
Истому.
Лишь тот, кто отрансен, блестящ, вдохновен,
Поймет тяготенье к ликеру,
Зовущему грезы к узору,
К ликеру под именем: Crеme de verveine —
Больному.
Мы — извервэненные с душой изустреченною,
Лунно-направленные у нас умы.
Тоны фиолетовые и тени сумеречные
Мечтой болезненной так любим мы.
Пускай упадочные, но мы — величественные,
Пускай неврастеники, но в свете тьмы
У нас задания, веку приличественные,
И соблюдаем их фанатично мы.
Мы — фанатики наших изборов,
Изысков, утонка.
Мы чувствуем тонко
Тем, что скрыто под шелком проборов,
Тем, что бьется под легким, под левым, —
Под левым, под легким.
Мечтам нашим кротким
Путь знаком к бессемянным посевам.
Не подвержены мы осязанью
Анализов грубых.
В их грохотных трубах —
Нашим нервам и вкусам терзанье.
Пусть структура людей для заборов:
Структура подонка.
Мы созданы тонко:
Мы — фанатики наших изборов.
Флакон вервэны, мною купленный,
Ты выливаешь в ванну
И с бровью, ласково-насупленной,
Являешь Монну-Ванну.
Правдивая и героичная,
Ты вся всегда такая…
Влечешь к себе, слегка циничная,
Меня не отпуская.
И облита волной вервэновой,
Луной и морем вея,
Душой сиренево-сиреневой
Поешь, как морефея.
Ночью, вервэной ужаленной, —
Майскою, значит, и белой, —
Что-нибудь шалое делай,
Шалью моею ошаленный.
Грезь о луне, лишь намекнутой,
Но не светящей при свете
Ночи, невинной, как дети,
Грешной, как нож, в сердце воткнутый.
Устрицы, острые устрицы
Ешь, ошаблив, олимонив,
Грезы, как мозгные кони,
Пусть в голове заратустрятся.
Выплыви в блеклое, штильное
Море, замлевшее майно.
Спой, опьяневши ямайно,
Что-нибудь белое, стильное…
Лунные слезы легких льнущих ко льну сомнамбул.
Ласковая лилейность лилий, влюбленных в плен
Липких зеленых листьев. В волнах полеты камбал,
Плоских, уклонно-телых. И вдалеке — Мадлэн.
Лень разветвлений клена, вылинявшего ало.
Палевые поляны, полные сладких сил.
Лютиковые лютни. В прожилках фьоль опала.
Милая белолебедь в светлом раскрыльи крыл.
Лучше скользить лианно к солнечному Граалю,
Кроликов ланно-бликих ловко ловить в атлас
Платьев лиловых в блестках. Пламенно лик реалю
И, реализм качеля, плачу печалью глаз.
Лючинь печальная читала вечером ручьисто-вкрадчиво,
Так чутко чувствуя журчащий вычурно чужой ей плач,
И в человечестве чтя нечто вечное, чем чушь Боккачио,
От чар отчаянья кручинно-скучная, чла час удач.
Чернела, чавкая чумазой нечистью, ночь бесконечная,
И челны чистые, как пчелы-птенчики безречных встреч,
Чудили всячески, от качки с течами полуувечные,
Чьи очи мрачные из чисел чудную чеканят речь.
Чем, — чайка четкая, — в часы беспечные мечтой пречистою
Отлично-честная Лючинь сердечная лечила чад,
Порочных выскочек? Коричне-глетчерно кричит лучистое
В качалке алчущей Молчанье чахлое, влача волчат…
Я слышу в плеске весла галер,
Когда залив заснет зеркально:
Судьба Луизы де Лавальер —
И трогательна, и печальна.
Людовик-Солнце, как кавалер,
Знал тайну страсти идеально.
Судьба Луизы де Лавальер
Все ж трогательна и печальна.
Когда день вешний печально-сер,
И облака бегут повально,
Судьба Луизы де Лавальер
Там трогательна и печальна.
И пусть этот образ из прежних эр
Глядит и тускло, и банально:
Судьба Луизы де Лавальер
Всегда пленительно-печальна.
В мое окно глядит луна.
Трюмо блистает элегантное.
Окно замерзло бриллиантное.
Я онемела у окна.
Луна глядит в мое окно,
Как некий глаз потустороннего.
С мечтой о нем, молю: «Не тронь его,
Луна: люблю его давно…»
В мое окно луна глядит
То угрожающе, то вкрадчиво.
Молюсь за чистого, за падшего
В порок, с отчаяньем в груди.
Луна глядит в окно мое,
Как в транс пришедшая пророчица.
Ах, отчего же мне так хочется
Переселиться на нее?…