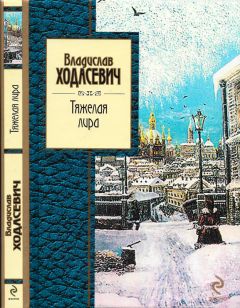ТРАЛЬЩИК «КИТОБОЙ» («Это — не напыщенная ода…»)[291]
Это — не напыщенная ода,
Обойдемся без фанфар и флейт!
…Осень девятнадцатого года.
Копенгаген. Безмятежный рейд.
Грозная союзная эскадра,
Как вполне насытившийся зверь,
Отдыхает… Нос надменно задран
У любого мичмана теперь.
И, с волною невысокой споря,
С черной лентой дыма за трубой
Из-за мола каменного, с моря
Входит в гавань тральщик «Китобой».
Ты откуда вынырнул, бродяга?..
Зоркий Цейсс ответит на вопрос:
Синий крест Андреевского флага
Разглядел с дредноута матрос…
Полегла в развалинах Россия,
Нет над ней державного венца,
И с презреньем корабли большие
Смотрят на малютку-пришлеца.
Странный гость! Куда его дорога,
Можно ли на рейд его пустить?
И сигнал приказывает строго:
«Стать на якорь. Русский флаг спустить».
Якорь отдан. Но, простой и строгий,
Синий крест сияет с полотна;
Суматоха боевой тревоги
У орудий тральщика видна.
И уже над зыбью голубою
Мчит ответ на дерзость, на сигнал:
«Флаг не будет спущен. Точка. К бою
Приготовьтесь!» — Вздрогнул адмирал.
Он не мог не оценить отпора!
Потопить их в несколько минут
Или?.. Нет, к громадине линкора
Адмиральский катер подают!
Понеслись. И экипаж гиганта
Видел, как, взойдя на «Китобой»,
Заключил в объятья лейтенанта
Пристыженный адмирал седой.
Вот и всё. И пусть столетья лягут,
Но Россия не забудет, как
Не спустил Андреевского флага
Удалой моряк!
В ГОСТЯХ У ПОЛКОВНИКА («Люблю февраль, когда прибавит дня…»)[292]
Люблю февраль, когда прибавит дня
Уже живее греющее солнце,
Когда капель запрыгает, звеня,
И где-то звякнет в жестяное донце.
День мощно раздвигает берега
И, увлекая сладострастным зовом,
Серебряными делает снега,
А небо исступленно-бирюзовым.
Торопит он не упустить его
Сиянья, трепетания и звона, —
Он так хорош! И, друг мой, отчего
Сегодня нам не посетить затона?
Так за реку! К полковнику, к дружку,
Громившему противника на Белой.
По голубому льду, по бережку,
В поселок сонный и оледенелый.
Вся в инее пустыня тихих мест.
Мы щуримся: играет солнце в жмурки.
«Приветствую!» — сияет белый крест
На старенькой полковничьей тужурке.
Он рад ли нам? О да, полковник рад,
На этот счет не может быть двух мнений.
Он курит трубку. Гости говорят:
«Мы с водочкой, с хозяина — пельмени».
Усядемся. Под первых рюмок звяк,
Еще холодной поднятых рукою,
Начнет полковник: «Помню, точно так
В татарской деревеньке под Уфою
Собрались мы», — и потечет рассказ,
За ним другой, — не может быть иначе,
Ведь память осветилась и зажглась
В клетушке этой отепленной дачи.
И как поют, как весело звучат
Событья восемнадцатого года,
Когда с азартом молодых волчат
Мы отгрызались от тебя, невзгода.
Когда ремни искателей побед
Отягощали желтые подсумки.—
И вот теперь, через пятнадцать лет,
За эти годы подымаем рюмки.
Вздохнуть ли здесь, что «не было судьбы»,
Что навсегда для нас закрылись дали?
Но ведь живет поэзия борьбы,
Которой увлеченно мы дышали.
Мы только ль в прошлом, только ли в былом?
Нет, всё еще звучит стальная лира:
Вот в старике с Георгьевским крестом
Вновь зоркого я вижу командира.
Он обнажает шашку и клинок,
Единым взмахом поднимает цепи.
Я слышу крик, я слышу топот ног
По отбеленной заморозком степи.
И вражеское грозно поднялось
Навстречу атакующему знамя…
«Я лично Адмиралу преподнес
Его потом», — подсказывает память.
И умолкает командир полка,
И слышен ветра делается шорох,
И облик Адмирала Колчака
(Иль тень его) всплывает в наших взорах.
Где времени губительный таран?
Не дышим ли мы боевой свободой?
И только ли сибирский ветеран
Жив вихрем восемнадцатого года?
Нет! Всё еще ты, боевой рожок,
Звучишь, звучишь, зовешь призывной трелью,
Не потому ль, что пулевой ожог
Мозжит в кости перед ночной метелью?
О, сколько дум и чувств! Передо мной
Какие память зажигает свечи!
А за окном, над ледяной рекой
Багряный, синий догорает вечер.
Прощаемся. Из этих тихих мест
Нам до дому неблизкая дорога.
Знак доблести — Победоносца крест —
Приветливо сияет нам с порога.
Заря чуть тлеет. Шепчет тишина
О пережитом, неизбывно близком,
А за мостом огромная луна
Восходит медным щитовидным диском.
В ВАГОНЕ. Рассказ в стихах («В вагоне опускают полки…»)[293]
В вагоне опускают полки,
Совсем, совсем светло в окне,
Но целый день пустой и долгий
Еще нестись на север мне.
В вагоне людно, но сурово
Мне одиночество нести:
За целый день по-русски слова
Я не смогу произнести.
Гляжу в окно — на бег равнины,
На золотой ее пожар,
И ем лениво мандарины —
Твоей заботливости дар.
Встает медлительное солнце,
Снегам сиянье возвратив,
И золотит очки ниппонца,
Сидящего насупротив.
Его и девочку с ним рядом —
Светила лучезарный взор
Любовно дарит алым взглядом
И ускользает в коридор.
И оба жмурятся. Сурово
Отец ворчит — мешает свет.
А до меня, глухонемого,
Им никакого дела нет.
Скользит по мне, как по пустому,
Их взгляд, подобный мотыльку,
И скучно мне, совсем чужому,
Внимать чужому языку.
И вдруг (от солнца, от движенья,
От этих даже лиц чужих)
Я слышу в сердце пробужденье
Чувств утверждающих, живых.
И как толчок — подсказ сознанью,
Что не напрасно я лечу,
Что где-то теплит ожиданье
Свою бессонную свечу.
Что сердце чье-то четко числит
Поспешный маятника стук,
Что мы уже сплетаем мысли
О нашей встрече, милый друг!
Мне надо радости ответной:
Хотя б улыбки луч один
Мне как-то вызвать незаметно!..
И я последний мандарин,
Приняв почтительную позу,
Кладу девчонке на пальто.
«Пожалуйста, прошу вас… дозоо».
И мне в ответ: «Аригато!»
Она смеется и глазами —
На папеньку. Вот и отец
Заулыбался вместе с нами.
И отчуждению — конец!
О ДЕТСКОЙ МОЛИТВЕ («Мы молимся в битве…»)[294]
Мы молимся в битве,
В болезни, под гнетом бессилья,
А детской молитве
Дарованы легкие крылья;
Мы просим и плачем,
А там говорят как о должном, —
И как же иначе
Твердить о таком невозможном,
Как в осень о лете,
О лете еще небывалом,
А то о предмете
Таком умилительно малом,
Как встреча с лошадкой
На утренней ранней прогулке,
И даже о сладкой,
Посыпанной сахаром булке.
Нужны ли поклоны?
И так, для других незаметно,
С высокой иконы
Господь улыбнулся ответно.
И, сном онемелый,
Увидит счастливый ребенок,
Как ангельски-белый
К нему подойдет жеребенок
И станет ласкаться,
Доверчив, игрив и послушен…
Легко догадаться,
Что будет по-дружески скушан
Тот с кремовым слоем
Пирог золотистый, воздушный,
Который обоим
Предложит Хозяин радушный
Высокого рая,
Цветов и лужаек зеленых.
И, мать умиляя,
Во сне улыбнется ребенок.
Вы скажете: «Снится!
Мелькнуло на миг и погасло!»
Вам лучше бы — ситца,
Картошки, бобового масла;
Ведь вам для утробы,
Для вашей вещуньи угрюмой:
Еще и еще бы —
И бочкой, и возом, и суммой!
И бьете поклоны,
И даже обедня пропета.
Но с темной иконы,
Увы, не дождаться ответа!
Да, снится, конечно,
Но только Господь, а не ситцы,
И разве не вечно
Поэты и дети — сновидцы!
НАЧАЛО КНИГИ («Живущие в грохоте зычном…»)[295]