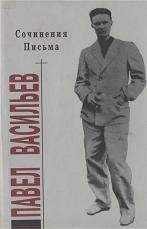ПЕСНЯ О ТОМ, ЧТО СТАЛОСЬ С ТРЕМЯ СЫНОВЬЯМИ ЕВСТИГНЕЯ ИЛЬИЧА НА БЕЛОМОРСТРОЕ
Первый сын не смирился, не выждал
Ни жены, ни дворов, ни коров —
Осенил он крестом себя трижды
И припомнил родительский кров.
Бога ради и памяти ради,
Проклиная навеки ее,
Он петлю себе тонкую сладил
И окончил свое житие.
Сын второй изошел на работе
Под моряны немыслимый вой —
На злосчастном песке, на болоте
Он погиб, как боец рядовой.
Затрясла лихоманка детину,
Только умер он все ж не врагом —
Хоронили кулацкого сына,
И чекисты стояли кругом.
Ну а третьему — воля, и сила,
И бригадные песни легки, —
Переходное знамя ходило
В леву руку из правой руки.
Бригадиром, вперед, не горюя,
Вплоть до Балтики шел впереди,
И за это награду большую
Он унес с собой в жизнь на груди.
Заревет, Евстигнёшке на горе,
Сивых волн непутевый народ
И от самого Белого моря
До Балтийского моря пройдет.
И он шел, не тоскуя, не споря,
Сквозь глухую, медвежью страну.
Неспокойное Белое море
Подъяремную катит волну.
А на Балтике песня найдется,
И матросские ленты легки,
Смотрят крейсеры и миноносцы
На Архангел из-под руки.
С горевыми морянами в ссоре,
Весть услышав о новом пути,
Хлещет посвистом Белое море
И не хочет сквозь шлюзы идти.
1934
ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ МУХАНА БАШМЕТОВА»
1. ГАДАНЬЕ
Я видел — в зарослях карагача
Ты с ним, моя подруга, целовалась.
И шаль твоя, упавшая с плеча,
За ветви невеселые цеплялась.
Так я цепляюсь за твою любовь.
Забыть хочу — не позабуду скоро.
О сердце, стой! Молчи, не прекословь,
Пусть нож мой разрешит все эти споры.
Я загадал — глаза зажмурив вдруг,
Вниз острием его бросать я буду, —
Когда он камень встретит, милый друг,
Тебя вовек тогда я не забуду.
Но если в землю мягкую войдет —
Прощай навек. Я радуюсь решенью…
Куда ни брось — назад или вперед —
Всё нет земли, кругом одни каменья.
Как с камнем перемешана земля,
Так я с тобой… Тоску свою измерю —
Любовь не знает мер — и, целый свет кляня,
Вдруг взоры обращаю к суеверью.
2. РАССТАВАНЬЕ
Ты уходила, русская! Неверно!
Ты навсегда уходишь? Навсегда!
Ты проходила медленно и мерно
К семье, наверно, к милому, наверно,
К своей заре, неведомо куда…
У пенных волн, на дальней переправе,
Всё разрешив, дороги разошлись, —
Ты уходила в рыжине и славе,
Будь проклята — я возвратить не вправе, —
Будь проклята или назад вернись!
Конь от такой обиды отступает,
Ему рыдать мешают удила,
Он ждет, что в гриве лента запылает,
Которую на память ты вплела.
Что делать мне, как поступить? Не знаю!
Великая над степью тишина.
Да, тихо так, что даже тень косая
От коршуна скользящего слышна.
Он мне сосед единственный… Не верю!
Убить его? Но он не виноват, —
Достанет пуля кровь его и перья —
Твоих волос не возвратив назад.
Убить себя? Все разрешить сомненья?
Раз! Дуло в рот. Два — кончен! Но, убив,
Добуду я себе успокоенье,
Твоих ладоней всё ж не возвратив.
Силен я, крепок, — проклята будь сила!
Я прям в седле, — будь проклято седло!
Я знаю, что с собой ты уносила
И что тебя отсюда увело.
Но отопрись, попробуй, попытай-ка,
Я за тебя сгораю со стыда:
Ты пахнешь, как казацкая нагайка,
Как меж племен раздоры и вражда.
Ты оттого на запад повернула,
Подставила другому ветру грудь…
Но я бы стер глаза свои и скулы
Лишь для того, чтобы тебя вернуть!
О, я гордец! Я думал, что средь многих
Один стою. Что превосходен был,
Когда быков мордастых, круторогих
На праздниках с копыт долой валил.
Тогда свое показывал старанье
Средь превращенных в недругов друзей,
На скачущих набегах козлодранья
К ногам старейших сбрасывал трофей.
О, я гордец! В письме набивший руку,
Слагавший устно песни о любви,
Я не постиг прекрасную науку,
Как возвратить объятия твои.
Я слышал жеребцов горячих ржанье
И кобылиц. Я различал ясней
Их глупый пыл любовного старанья,
Не слыша, как сулили расставанье
Мне крики отлетавших журавлей.
Их узкий клин меж нами вбит навеки,
Они теперь мне кажутся судьбой…
Я жалуюсь, я закрываю веки…
Мухан, Мухан, что сделалось с тобой!
Да, ты была сходна с любви напевом,
Вся нараспев, стройна и высока,
Я помню жилку тонкую на левом
Виске твоем, сияющем нагревом,
И перестук у правого виска.
Кольцо твое, надетое на палец,
В нем, в золотом, мир выгорал дотла, —
Скажи мне, чьи на нем изображались
Веселые сплетенные тела?
Я помню всё! Я вспоминать не в силе!
Одним воспоминанием живу!
Твои глаза немножечко косили, —
Нет, нет! — меня косили, как траву.
На сердце снег… Родное мне селенье,
Остановлюсь пред рубежом твоим.
Как примешь ты Мухана возвращенье?
Мне сердце съест твой одинокий дым.
Вот девушка с водою пробежала.
«День добрый», — говорит. Она права,
Но я не знал, что обретают жало
И ласковые дружества слова.
Вот секретарь аульного совета, —
Он мудр, украшен орденом и стар,
Он тоже песни сочиняет: «Где ты
Так долго задержался, джалдастар?»
И вдруг меня в упор остановило
Над юртой знамя красное… И ты!
Какая мощь в развернутом и сила,
И сколько в нем могучей красоты!
Под ним мы добывали жизнь и славу
И, в пулеметный вслушиваясь стук,
По палачам стреляли. И по праву
Оно умней и крепче наших рук.
И как я смел сердечную заботу
Поставить рядом со страной своей?
Довольно ныть! Пора мне на работу, —
Что ж, секретарь, заседлывай коней.
Мир старый жив. Еще не всё сравнялось.
Что нового? Вновь строит козни бий?
Заседлывай коней, забудь про жалость —
Во имя счастья, песни и любви.
3
Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса
И утверждаю, что тебя совсем не было.
Целый день шустрая в траве резвилась коса —
И высокой травы как будто не было.
Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса
И утверждаю, что ты совсем безобразна,
А если и были красивыми твои рыжие волоса,
То они острижены тобой совсем безобразно.
И если я косые глаза твои целовал,
То это было лишь только в шутку,
Но, когда я целовал их, то не знал,
Что всё это было лишь только в шутку.
Я оставил в городе тебя, в душной пыли,
На шестом этаже с кинорежиссером,
Я очень счастлив, если вы смогли
Стать счастливыми с кинорежиссером.
Я больше не буду под утро к тебе прибегать
И тревожить твоего горбатого соседа,
Я уже начинаю позабывать, как тебя звать
И как твоего горбатого соседа.
Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса, —
Единственный человек, которому жалко,
Что пропадает твоя удивительная краса
И никому ее в пыльном городе не жалко!
4. НАХОДКА НА БУХТАРМЕ
В песке и грязи речонки,
Далеко известной речонки Бухтармы,
Тяжелые кости,
Рыжие кости,
Длинные кости находили мы.
Из Актюбы приехал
На Бухтарму дуана
И сказал собравшимся:
«Видите, какова у костей длина!
Кто встречал другие,
Подобные им?
Каждую кость,
Любую кость Не унести двоим!»
Продолжал говорить
Дуана из Актюбы:
«Я разгадку костей,
Этих ржавых костей, добыл.
Священные кости это —
Молиться надо!
Знаменитые кости —
Почитать их надо!
Кости великанов,
Но добрых, не злых,
Спляшем мы священную
Пляску на них».
И съезжались аулы
Смотреть на кости,
К первым богатырям
Приезжали гости.
Известие шло от Павлодара
До Баян-Аула, —
А потом и дальше
Известие повернуло.
И к воде бухтарминской,
К бухтарминской тине
Съезжались все,
И костры горели в долине.
Но вот из Омска
Прибыла экспедиция.
Говорит начальник экспедиции:
«Не молиться мы приехали —
Совсем за другим.
Из вязкой тины,
Глубокой тины
Добудем мы кости
И сохраним!
Приниматься за дело
Нужно скорей.
Это кости не богатырские,
А кости
Невиданных здесь зверей,
Дорогостоящие кости зверей,
Редкие кости зверей!»
Не уверены в правде начальника,
Казахи говорят: «Едва ли.
Мы подобных зверей
В степях не встречали,
Да, не встречали
Подобных зверей мы
На берегах речонки,
Далеко известной
Речонки Бухтармы».
Отвечает начальник:
«Теперь их нет,
Они перевелись уже
Множество множеств лет.
Ни один из них Теперь не живет,
Их истребил
Лед,
Лед,
Лед!
Лед, сверкающий
На вершинах Алтая,
Здесь лежал, блестя
И не тая».
И аулы узнали,
Что не было богатырей,
Услыхали аулы,
Про дорогостоящих,
Невиданных,
Редких зверей.
Уваженьем прониклись
К начальнику экспедиции
И перестали молиться.
А дуана, испугавшись,
Чтоб с ним не случилось беды,
Вновь в Актюбы
Проложил следы.
И в сотый раз опозорена его седина:
Наврал, наврал седой дуана.
Так и выходит:
Наврал дуана,
Вот тебе и на!
Мы слыхали, что
Утешился он,
Сказки детям
Рассказывает он:
Будто бы уцелевшие
От льда,
Льда,
Льда
По ночам пробегают
Огромных зверей стада,
И под их
Косматыми лапами
Степь дрожит,
И наутро
Звездами,
Звездами,
Звездами солончак разбит.
Да и много еще чего
Рассказывает дуана —
Всем известна
Его языка длина.
Ну и пусть он детям
Сказки рассказывает!..
5. ПЫЛЬ
Я, Амре Айтаков, весел был,
Шел с верблюдом я в Караганды.
Шел с верблюдом я в Караганды,
Повстречался ветер мне в степи.
Я его не видел —
Только пыль,
Я его не слышал —
Только пыль
Прыгала безглазая в траве.
И подумал я, что умирать
С криком бесполезно.
Всё равно
После смерти будет
Только пыль.
Ничего, —
Одна лишь только пыль
Будет прыгать, белая, в траве.
Спрятал ноздри рваные верблюд,
Лег на землю.
«Старый мой верблюд,
Слушай, слушай!
Это только пыль,
Ничего, —
Одна лишь только пыль
Прыгает по спутанной траве».
Стал я громко хохотать:
«Ну что ж?..»
Стал смеяться дерзко я:
«Постой,
Ты смешна,
Крутящаяся пыль,
Не страшна ты,
Бешеная пыль,
Прыгающая в траве».
Пусть засыпан буду я песком,
Пусть один погибну я в песках,
Не страшна ты и безвредна, пыль.
Ничего
Ты не изменишь, пыль,
Задохнешься
Ты сама в траве!
Человек бессмертен столько раз,
Сколько раз
Он смерть свою встречал.
Сквозь тебя
Пройду я мертвым, пыль,
Я пройду в Караганды сквозь пыль,
Весело ступая по траве.
И, свою подругу там обняв,
Я шепну ей на ухо смеясь:
«Дорогая,
Мне встречалась пыль,
Старая,
Невидящая пыль,
Прыгающая смешно».
6. ОБРАЩЕНИЕ
На север, к Тоболу
все глуше —
трясина топи,
рыжая мшарь и леса.
Дикие гуси, крякуши.
Но и тут —
всё поет.
Лягушка — и та поет.
И у каждого свои голоса.
Если бы отбубнили все комары,
в мире стало б скучнее,
Так квакайте, квакушки,
летней ночью,
раздуваясь
в прудах и болотах
сильнее!..
Я простой, как бурдюк,
но и меня смущает
тревога гудков,
барабана гугнивая дробь.
Ирина, скажи:
хоть воробьиный голос
есть у меня?
Хоть трели лягушки,
гибкость ужа,
ящериц прыть,
кузнечиков треск
есть у меня?
Козлиное лицо,
пьяные прыжки мои,
рачий свист,
черепашья страсть
могут тебя рассмешить на минутку?
Аришка, скажи.
Ты мое счастье глазастое,
рысь мохноухая,
моя подводная незабудка.
7
Как тень купальщицы — длина твоя.
Как пастуший аркан — длина твоя.
Как взгляд влюбленного — длина твоя.
В этом вполне уверен я.
Пламени от костра длиннее ты.
Молнии летней длиннее ты.
Дыма от пальбы длиннее ты.
Плечи твои широки, круты.
Но короче
свиданья в тюрьме,
Но короче
удара во тьме —
Будто перепел
в лапах орла,
Наша дружба
с тобой
умерла.
Пусть же крик мой перепелиный,
Когда ты танцуешь, мой друг,
Цепляется за твою пелерину, —
Охрипший в одиночестве длинном,
Хрящами преданных рук.
8. ВОСПОМИНАНИЕ О РУССКОЙ
Ты длинна, как солнца луч в амбаре,
Где лежат горячие хлеба…
Пыльные, цветастые татаре
Бьют в барыш в ладони на базаре…
В честь твою, Ирина, в Атбасаре
Начинались пляски и пальба.
Оттого ль, как рыжая лисица,
Ночью память грудь мою грызет.
Ты — крылата, коршуна сестрица.
Ты длинна, длинней полета птицы,
И горька. Горька, как дикий мед.
Оттого ль средь гульбищ сабантуя
Я один от кумыса не пьян.
Я с разлукой спорю, я ревную,
Я ношу занозу золотую
В самом сердце горестном, Мухан.
1931–1934
ИЗ ЦИКЛА «ИРИНЕ ГОРЛИЦЫНОЙ»