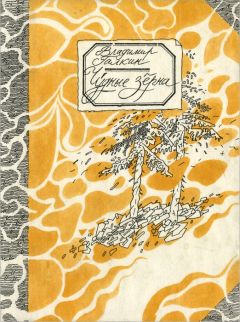СВАДЬБА
Умерла дочка старосты, Катя.
Ей отец в женихи Павла прочил,
А любила она Александра…
Ворон горе недаром пророчил.
Отнесли парни Катю в часовню;
А часовня на горке стояла;
Вкруг сосновая роща шумела
И колючие иглы роняла.
Выезжал Александр поздно ночью;
Тройка, фыркая, пряла ушами;
Подходила сосновая роща,
Обнимала своими ветвями.
Заскрипели тяжелые петли,
Пошатнулся порог под ногою;
Поднял парень из гроба невесту
И понес, обхвативши рукою.
Свистнул кнут, завертелись колеса,
Застонали, оживши, каменья,
Потянулись назад полосами
Пашни, рощи, столбы и селенья.
Расходились настеганы кони,
Заклубились их длинные гривы;
Медяные бубенчики плачут,
Бьются, сыплются их переливы!
Как живая посажена Катя:
Поглядеть — так глядит на дорогу;
И стоит Александр над невестой,
На сиденье поставивши ногу.
Набекрень поворочена шапка,
Ветер плотно лежит на рубахе;
Не мигают раскрытые очи,
Руки — струны, и кнут — на отмахе.
Понесли кони в гору телегу,
На вершине, осажены, сели…
Поднялась под дугой коренная,
Пристяжные, присев, захрапели…
Там, согнувшись красивой дугою,
У дороги песок подмывая,
Глубока и глубоко под нею
Проходила река голубая…
Занимается ясное утро,
Ветер с кручи песок отвевает,
Тройка, сбившись в вожжах и постромках,
Морды низко к земле наклоняет.
Над обрывом валяется шапка…
Смяты, вянут цветы полевые…
Блещет золотом розовый венчик,
А на венчике — лики святые…
Идет, бредет нелепый Слух
С беззубых ртов седых старух,
Везде пройдет, все подглядит,
К чему коснется — зачернит;
Тут порычит, там заорет,
Здесь прочихнется, отойдет.
Он верно здесь? Посмотришь — нет,
Пропал за ним и дух и след.
А он далеко за глаза
Гудит, как дальняя гроза…
С ним много раз вступали в бой:
Стоит, как витязь он чудной,
Неясен обликом своим,
Громаден, глуп и недвижим;
Сквозь сталь и бронзу шишака,
Сквозь лоб проходят облака!
В нем тела даже вовсе нет:
Сквозит на тень, сквозит на свет!
Ступнями Слух травы не мнет…
Но пусть, кто смелый, нападет:
Что ни удар, что ни рубец, —
Он все растет и под конец
Подступит вплоть, упрется в грудь,
Не даст и руку замахнуть…
А иногда своих сынков
Напустит Слух, как комаров;
Жужжит и вьется их народ
И лезет в уши, в нос и в рот;
Как ни отмахивай рукой,
Все тот же шум, все тот же рой…
А Слух-отец сидит при них,
Читая жития святых…
На небе луна, и кругла и светла,
А звезды — ряды хороводов,
А черные тучи сложились в тела
Больших допотопных уродов.
Одеты поля серебристой росой…
Под белым покровом тумана
Вон дроги несутся дорогой большой, —
На гробе сидит обезьяна.
«Эй! Кто ты, — что думаешь ночь запылить,
Коней своих в пену вогнала?» —
«Я глупость людскую везу хоронить,
Несусь, чтоб заря не застала!» —
«Но как же, скажи мне, так гроб этот мал!
Не вся же тут глупость людская?
И кто ж хоронить обезьяну послал,
Обрядный закон нарушая?» —
«Я, видишь ли, вовсе не то, чем кажусь:
Я родом великая личность:
У вас философией в мире зовусь,
Порою же просто практичность;
Я некогда в Канте и Фихте жила,
В отце Шопенгауэре ныла,
И Германа Гартмана я родила
И этим весь свет удивила.
И все эти люди, один по другом,
Все глупость людей хоронили
И думали: будто со мною вдвоем
Ума — что песку навозили.
Ты, чай, не профессор, не из мудрецов,
Сдаешься не хитрым, и только:
Хороним мы глупости много веков,
А ум не подрос ни насколько!
И вот почему: чуть начнешь зарывать,
Как гроб уж успел провалиться —
И глупости здешней возможно опять
В Америке, что ли, явиться.
Что ночью схоронят — то выскочит днем;
Тот бросит — а этот находит…
Но ясно — чем царство пространнее, — в нем
Тем более глупостей бродит…» —
«Ах ты, обезьяна! Постой, погоди!
Проклятая ведьма — болтунья!..»
Но дроги неслись далеко впереди
В широком свету полнолунья…