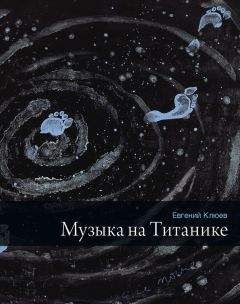Новый роман
А роман не давался, мудрил, ничего не хотел:
ни назад не хотел уходить, ни вперёд продвигаться —
буксовал у начала абзаца, пыхтел и кряхтел
и отказывал полностью, не одолевши абзаца.
Всё просился на отдых, твердил, что тяжёл перевал,
убеждал, что ему не дойти даже до середины,
а когда я сажал его в поезд, то он бунтовал,
вырывался, кричал и кидал из окна чемоданы,
по платформе слонялся, стоял у ларьков, как большой,
с алкашами – ведя разговоры о, кажется, Барте
или марте, не помню… о Барте, о марте, о смерти,
о скрипичном концерте, как водится у алкашей, —
в общем, весь распустился. Домой возвратившись, хамил,
симулировал то ли мигрень, то ли гипертонию.
Я отмыл в бадузане его, напоил, накормил,
положил на кровать – сам всю ночь проходил за стеною,
пил шалфей, пил пустырник, себе самому был смешон,
проклинал мою старую жизнь под звездою убогой…
А наутро он встал, хлопнул рюмку, сказал: я пошёл —
и ушёл от меня восвояси – своею дорогой.
Я чтo хочу сказать – да вот, пожалуй,
и ничего: что март прошёл впустую.
Я ни против чего не протестую —
вот только жалко книги залежалой
не продолжал… она не продолжалась
сама, ей всё чего-то было мало,
она лежала, вызывала жалость
и ярость, ярость тоже вызывала.
Март – вообще – не самый лучший месяц:
весною я гневлив и всё пытаюсь
уединиться, окна занавесить,
не отвечать по телефону, то есть
забиться в щель, забыться, затеряться,
не то – совсем уйти и не сказаться,
нет, раствориться – в кофе, хоть с корицей,
хоть с кардамоном, хоть с любой из специй.
А чтo хочу сказать – да извиниться
за то, и за другое, и за третье:
вот, за отчизну… нет, за заграницу,
за старое – нет, новое столетье.
Собака Отто умел отнимать
один от пяти и шести.
Собака Отто умел понимать
разные разности
и был задумчив не раз на дню
(тогда его взгляд пустел).
Он мог бы напоминать Камю,
если бы захотел.
Собака Отто был полон тайн —
чудесная голова;
о нём писала б Гертруда Стайн,
если б была жива.
И если б он был в её кругу,
они бы были на «ты»,
но он обычно лежал на лугу
и просто нюхал цветы.
И с ним было не о чем говорить,
поскольку он всё постиг,
его душа была лабиринт,
но сердце было – цветник.
И он презирал эту жизнь – за скарб,
за скорбь, за базар-вокзал.
А после собака Отто вдруг starb
и ничего не сказал.
«…что однажды придёт исцеление…»
…что однажды придёт исцеление,
что апрель с декабрём не сравнится,
что страна, дай-то Бог, не последняя
и страница —
этим и утешайся, как пьяница:
тем, что пьётся пока, тем, что пенится,
ещё пенится пиво в ковше
и не выпенится вообще.
…что весна принесёт тебе ласточку,
а уж та принесёт тебе весточку —
приглашенье в иные широты,
где играют в иные шарады:
забубнили ключами небесными,
забренчали небесными баснями —
и открылся заоблачный ларчик,
и понятен Господний узорчик.
Так и думать бы… если бы думалось!
Только жизнь – как шиповник, как жимолость,
просто так себе произрастая —
безголовая вся и пустая:
пьешь Господнюю кровь, Его тело ешь,
ходишь-бродишь… волчишь и медведишь.
Ничего-то ты больше не сделаешь,
никуда-то уже не уедешь.
«Если б мы встретились с Вами, то я б рассказал…»
Если б мы встретились с Вами, то я б рассказал
новые вещи о стареньком нашем тогда:
там всё опять поменялось – костюм на камзол,
музыка на дибазол, и не видно следа
от… да какое там «от», дамы и господа!
Я переставил опять фортепьяно и шкаф,
чуть передвинул и сильно расширил окно,
заново всем объяснил, кто был прав, кто неправ,
кто был герой, кто был… ммм… золотое руно, —
тут эвфемизм, дорогие, но пусть, всё равно.
Я королю показал, как ходить королю,
пешек отшлёпал по задницам толстым, а тур
просто послал, потому что, пардон, не люблю
краеугольных камней и простецких натур —
я фьоритуры люблю, тирлирли-тюрлюрлю.
В общем, там всё по-другому, на случай чего —
и, говорят, ничего… и приволье мечтам!
Всё это памяти ловкость, а не волшебство,
я бы провёл Вас по этим далёким летам,
если б мы встретились… как Вас там, как же Вас там?
«Вот бы приманить удачу…»
Вот бы приманить удачу,
да к удаче бы в придачу
ветерок с зюйд-веста…
а что к счастью бьются блюдца,
и за что быки берутся —
это-то известно!
Мы не жили жизнь наскоком —
мы готовились к урокам,
мы азы зубрили…
нам в смятении глубоком
разве только ненароком
удавались трели —
и всего-то два-три звука,
а смотри, какая мука
в бедном их сплетеньи!
Но зато из мыслей горьких
вырастали на задворках
дивные растенья:
типа мирта, типа мяты…
где ж те тэты, где ж те йоты,
где ж то изобилье!
…ходит, ходит бык с рогами,
топчет бодрыми ногами
всё, что мы любили.
«Счастью-то, наверно, уже не бывать…»
Счастью-то, наверно, уже не бывать —
ну и наплевать.
Сизокрылый месяц утомился кивать —
откивал своё и улёгся в кровать…
Если б научиться наконец рисовать!
Чтобы акварелька по водам плыла
на краю стола,
чтобы всё забыла: как жизнь, как дела
и какое имя у её ремесла,
чтобы потекла на паркет…
Ничего, что счастью-то уже не бывать, —
если б научиться наконец рисовать,
если бы суметь всё забыть наконец,
кроме слова «цвет».
Говорят, за нами уже послан гонец
на одном небесном коне —
мы его однажды увидим во сне,
если не в окне:
конь попьёт из лужицы, натёкшей с кистей,
станет розоват,
а гонец надарит нам с небес новостей,
чтобы – рисовать!
«Ещё говорят, что и это, мол, я сказал…»
Ещё говорят, что и это, мол, я сказал.
Что, дескать, продаться нетрудно – если продаться.
Язык мне отрезать – не русский, так вот хоть… датский.
Понятно, скандал – я и сам говорю: скандал.
Конечно, Вас купят, я зря так, я пошутил,
Вас купят за то же, за что покупают фрукты,
пирожные, женщин… и купят, и скажут ух ты —
за эти же деньги: металл, он и есть металл.
И всех-то нас купят, и всем-то нам поделом —
за эти же деньги, других у них не бывает:
которыми платят в кино, в кабаках, в трамваях,
в киосках – табачном, скажем… тут, за углом.
За эти же деньги: вот водка, вот колбаса,
вот свежая пресса, вот старенькая принцесса,
вот Ваша последняя (очень надеюсь) пьеса,
вот смысл нашей жизни, вот счастье, вот небеса.
«Где-то совсем под рукой… помню, там были слова…»
Где-то совсем под рукой… помню, там были слова:
тб-та-та-тб-та-та-тб-ветер-хотел-уезжать,
тб-та-та-тб-та-та-тб-не-соглашалась-трава —
путаясь сразу во всём: числах, родах, падежах.
Дальше – уже о другом, или о том же ещё,
или ещё не о том, или уже не о том —
всей нашей жизни насчёт: я её поднял на щит,
ну и… не знал, как мне быть с этим тяжёлым щитом.
Тб-та-та-тб-та-та-тб – дальше был просто пробел:
сколько я прубыл и где – всё это даже не суть,
всё это ветер забыл: помнил, не помнил – забыл
про опустевшую сеть, про моё не обессудь,
про по чужим небесам, про по чужим адресам,
про по лугам, по лесам…
Где-то совсем под рукой
был ведь листочек с такой длинной-предлинной строкой!
Может, и не записал. Может, и не написал.
«За любой случайный адрес…»
За любой случайный адрес,
за любой случайный образ,
за початый леденец
(буря-мглою-небо-кроет —
появился-астероид —
вот-и-сказочке-конец) —
уцепись
…и полетели,
где качались тихо ели,
знать бы, кто они такие,
извиняюсь, времири…
от токая до текилы,
от текилы до зари.
Знать бы, что они за фрукты,
за субъекты, за конструкты —
знать бы, что у них внутри!
Но, конечно, не удастся
изловить их у дверей…
не удастся разрыдаться,
не удастся проводить их,
этих лёгких, этих диких,
этих ветхих времирей!
День пока ещё ершится,
но за что ни уцепись,
вырывается вещица,
и сдаётся временщица —
жизнь, как ты ни торопись…
и невнятна ско-ро-пись.
За морями, за лесами,
под чужими небесами
мы писали, кончен труд —
мы писали, мы писали,
наши пальчики устали,
скоро пальчики замрут.
«Ясное дело, я тоже могу по-другому…»
Ясное дело, я тоже могу по-другому:
всякую мысль приструню наконец и – сумею:
буду привязывать строчку к воздушному змею,
к детскому шуму привязывать, к птичьему гаму…
ясное дело, я тоже могу по-другому.
Буду привязывать старую, значит, лошадку
к шпилю собора, и самую свежую шутку —
значит, к решётке…
А после, со всем этим справясь,
я и для сердца найду подходящую привязь —
крепкую прихоть какую… такую-сякую,
стану служить, говоря: я служу и ликую.
Все-то мы живы верёвочкой, лентой, цепочкой,
все-то мы славим и славим свою несвободу,
все распеваем ручными сверчками за печкой —
вот изменюсь, значит, в корне и тоже так буду
или не буду… опять не явившись к обеду.
Дело напрасное – умничать, нервничать, дуться:
если мы дети, так пусть уж и мир распадётся,
как пирамидка, на праздные плоские диски,
снова не станет порядка, растает единство:
вот, укатились – и пахнет изменой, крамолой!
А соберёшь ли… да кто ж тебя знает, мой милый!