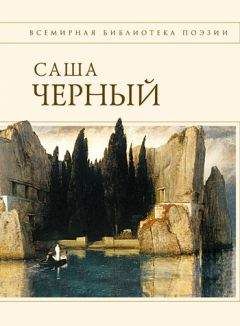Стилизованный осел[90]
Ария для безголосых
Голова моя – темный фонарь с перебитыми
стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными пьяными
Феклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.
Я волдырь на сиденье прекрасной российской
словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.
Я люблю апельсины и всё, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.
Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется
И вопит: «Не поэзия – шваль!»
Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно жженой магнезии
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.
Ах, словесные тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял – невежда. К нечистому!
Накося-выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу…
Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую всё это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках…
<1908>
Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет[91].
А он был просто повеса,
Курчавый и пылкий брюнет.
Повеса пришел к поэтессе.
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе[92],
Поэтесса гнусила стихи:
«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!
Я свежа, как дыханье левкоя…
О, сплетем же истомности тел!»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.
Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела…
С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек,
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!» —
Охладило кипучий поток.
«Простите… – вскочил он. – Вы сами…»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»
Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость…
С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.
<1909>
Посв<ящается> исписавшимся «популярностям»
Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать…
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!
Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца, —
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..
Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда —
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.
Паралич спинного мозга!
Врешь, не сдамся! Пень-мигрень,
Бебель[93] – стебель, мозга-розга,
Юбка-губка, тень-тюлень.
Рифму, рифму! Иссякаю —
К рифме тему сам найду…
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду.
Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский[94] дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин[95] – разбитым горшком…
Нет, не сдамся… Папа-мама,
Дратва-жатва, кровь-любовь,
Дама-рама-панорама,
Бровь, свекровь, морковь… носки!
<1908>
Одни кричат: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи —
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»
Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».
Им спора не решить… А жаль!
Ведь можно наливать… вино в хрусталь.
<1909>
У поэта умерла жена…
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.
После похорон сел дома у окна,
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».
<1909>
Дамам, чирикающим в детских журналах
Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик…
Птичка оправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку…»
Дети, в оконные рамы
Хмуро уставясь глазами,
Полны недетской печали.
Даме в молчанье внимали.
Вдруг зазвенел голосочек:
«Сколько напикала строчек?..»
<1910>
Посвящается К. Чуковскому[96]
В экзотике заглавий – пол-успеха[97],
Пусть в ноздри бьет за тысячу шагов:
«Корявый буйвол», «Окуни без меха!»,
«Семен Юшкевич[98] и охапка дров».
Закрыв глаза и перышком играя,
Впадая в деланный холодно-мутный транс,
Седлает линию… Ее зовут – кривая,
Она вывозит и блюдет баланс.
Начало? Гм… Тарас убил Андрея
Не за измену Сечи… Раз, два, три!
Но потому, что ксендз и два еврея
Держали с ним на сей предмет пари.
Ведь ново! Что-с? Акробатично ново!
Затем – смешок. Стежок. Опять смешок.
И вот – плоды случайного улова —
На белых нитках пляшет сотня строк.
Что дальше? Гм… Приступит к данной книжке,
Определит, что автор… мыловар,
И так смешно раздует мелочишки,
Что со страниц пойдет казанский пар.
Страница третья. Пятая. Шестая…
На сто шестнадцатой – «собака» через «ять»!
Так можно летом на стекле, скучая,
Мух двадцать, размахнувшись, в горсть поймать.
Надравши «стружек» кстати и некстати,
Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на а́нглийской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.
Кустарит парадокс из парадокса…
Холодный пафос недомолвок – гол,
А хитрый гнев критического бокса
Всё рвется в истерический футбол…
И наконец, когда мелькнет надежда,
Что он сейчас поймает журавля,
Он вдруг смущенно потупляет вежды
И торопливо… сходит с корабля.
Post scriptum. Иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош[99], —
Тогда гремит в нем гений исполинский
И тогой с плеч спадает макинтош!
<1911>
Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии[100]
И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.
Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия[101],
Говорят: здоровенный талант!
Да еще не мешало б Горация[102] —
Тоже был, говорят, не без грации…
А Шекспир, а Сенека[103], а Дант[104]?
Утешаюсь одним лишь – к приятелям
(Чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:
«Кто читал Ювенала[105], Вергилия?»
Но, увы (умолчу о фамилиях),
Оказалось – никто не читал!
Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику…
Перешли вообще на пиитику —
И поехали. Пылкий народ!
Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
«О влиянье желудка на стиль»…
Утешенье, конечно, большущее…
Но в душе есть сознанье сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестреньких дней!
<
1911>
Гессен[106] сидел с Милюковым[107] в печали.
Оба курили, и оба молчали.
Гессен спросил его кротко, как Авель[108]:
«Есть ли у нас конституция, Павел?»
Встал Милюков. Запинаясь от злобы,
Резко ответил: «Еще бы! Еще бы!»
Долго сидели в партийной печали.
Оба курили, и оба молчали.
Гессен опять придвигается ближе:
«Я никому не открою – скажи же!»
Раненый демон в зрачках Милюкова:
«Есть – для кадет! А о прочих ни слова…»
Мнительный взгляд на соратника бросив,
Вновь начинает прекрасный Иосиф[109]:
«Есть ли…» Но слезы бегут по жилету —
На ухо Павел шепнул ему: «Нету!»
Обнялись нежно и в мирной печали
Долго курили и долго молчали.
<1909>