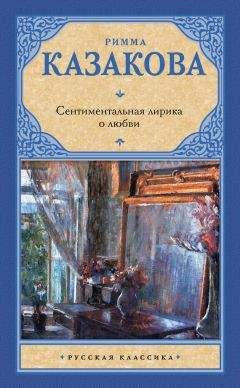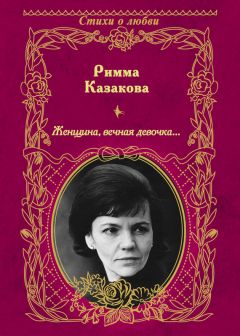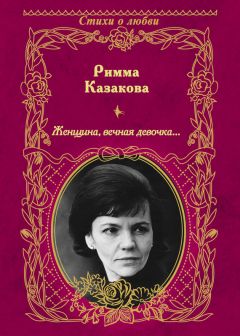Не изыск – и вы, мои дела.
Кто-то скажет: пахнет ширпотребом…
Я скажу: картошкою и хлебом
жизнь всегда незыблема была.
И уж если человек не слеп,
то, что он берет с моей ладошки,
это – наподобие картошки,
это просто, как обычный хлеб.
Музыка работы, скрип весов…
Музыка движений односложных,
осторожных, нужных, неоплошных,
музыка дыханий, голосов…
И во мне безудержно поет
музыка – такая же по сути!
Кто – осудит, ну а кто – рассудит:
женщина картошку продает.
Не важно, что Гомер был слеп.
А может, так и проще…
Когда стихи уже – как хлеб,
они вкусней на ощупь.
Когда строка в руке – как вещь,
а не туманный символ…
Гомер был слеп, и был он весь –
в словах произносимых.
В них все деянию равно.
В них нет игры и фальши.
В них то, что – там, давным-давно,
и то, что будет дальше.
Слепцу орали: – Замолчи! —
Но, не тупясь, не старясь,
стихи ломались, как мечи,
и все-таки остались.
Они пришли издалека,
шагнув из утра в утро,
позелененные слегка,
как бронзовая утварь.
Они – страннейшая из мер,
что в мир несем собою…
Гомер был слеп, и он умел
любить слепой любовью.
И мир, который он любил
чутьем неистребимым,
не черным был, не белым был,
а просто был любимым.
А в уши грохот войн гремел,
и ветер смерти веял…
Но слепо утверждал Гомер
тот мир, в который верил.
…И мы, задорные певцы
любви, добра и веры,
порой такие же слепцы,
хотя и не Гомеры.
А жизнь сурова и трезва,
и – не переиначить!
Куда вы ломитесь, слова,
из глубины незрячей?
Из бездны белого листа,
из чистой, серебристой, –
юродивые, босота,
слепые бандуристы…
«Сказал неумолимо – как отрезал…»
…Сказал неумолимо – как отрезал,
что книгу назвала неинтересно.
«А эти вот стишки –
ни к черту вовсе…»
Мне было в эту пору двадцать восемь.
Не зло звучало это и не черство,
а это мной, моей судьбой болело
то самое и братство, и отцовство,
что стать такой, как стала, повелело.
А годы шли.
Как тяжело призванье!
По строчкам
дни
без состраданья
мчатся.
«Вот, Миша, слышишь?
Лучшее названье!»
Но до тебя уже не докричаться.
«Вот, Миша, –
может, лучшее творенье…»
Но кем-то кончен путь –
а кем-то начат.
…И бедное мое стихотворенье
опущенными
плечиками
плачет.
…Жили свободно, искали тепла
и не пугались обмана.
Жизнь непроста, но легенда светла,
свято:
Марина и Анна.
Были ошибки и просто грехи.
Правда – в оброненной фразе,
что вырастали из сора стихи,
не из духов, а из грязи.
Я обитала в безбожной стране,
где, что от храма, –
под бритву!
И заменяли их строки вполне
Библию,
Бога,
молитву.
Мне это знание тоже дано,
музыка слов-откровений.
Может, живу и не слишком грешно,
но и таланта помене.
С тем, что наш крест не из легких,
смирюсь,
верую и уповаю,
в церкви вселенской стихами молюсь,
душу свою умываю.
Дивный пример,
утешающий звук,
магия жеста и стана,
гордых имен, убедительных рук,
строгих:
Марина и Анна.
Как и у них, путь –
и выбора нет.
С неба не сыплется манна.
Но осеняет спасительный свет
вечных:
Марина и Анна.
Какие песни ни пропеты,
лишь ими дни не исчисляй.
Не исчезай с лица планеты,
прошу тебя, не исчезай!
Ты жил не зря, ты много сделал,
но нежно, неутешно жаль
живой души, живого тела…
Прошу тебя, не исчезай!
Не только нотою упрямой
захлестывая мир и зал,
как для любимой, как для мамы,
жив, во плоти – не исчезай!
Оправдывай хулу, наветы,
озорничай, дури, базарь
и лишь с лица своей планеты,
прошу тебя, не исчезай!
Горячкой глаз, парком дыханья,
даритель правды, маг тепла,
с Таганки, из любых компаний
не исчезай, прошу тебя!
В календаре не смею метить
твою посмертную зарю.
Мне говорят: исчез в бессмертье.
«Не исчезай!» – я говорю.
А ты, что пел, как жил, нелживо,
смеешься: мол, себя не жаль…
И говоришь всему, что живо,
и мне, как всем: «Не исчезай!..»
Достаточно, что не солгу,
что свой несильный голос ввысь тяну.
Знать все и впрямь я не могу,
лишь проливаю свет на истину.
И ты добавь, и ты прибавь,
вторгайся в монопольность деспота,
хотя бы мелочью приправ
явленью истины содействуя.
Как никогда, искажена
жизнь формулами полувнятными,
но то, что истина – одна,
похоже, навсегда понятно мне.
Я где-то около хожу,
но мне не топчется, шагается,
когда хоть что-нибудь скажу,
что с истиною сопрягается.
Жалею Пушкина, как сына.
Когда б в те годы я жила,
я для него бы попросила
у жизни, если бы могла,
лишь эту светлую, простую –
земных забот его предел, –
лишь Горку Савкину крутую,
где дом построить он хотел.
Летела жизнь, неслась, ломалась, –
войне подобная, игре…
Ах Боже мой, какая малость:
приют на Савкиной Горе!
Смотрю вокруг с нее пристрастно.
Земля в рассветном серебре…
А ведь и вправду, как прекрасно
на этой Савкиной Горе!
И Пушкин знал, как жить, что делать
в расцветной той своей поре!
Нелепо: недостало денег
на дом на Савкиной Горе.
Все было: жизнь, любовь, признанье.
Все будет: слава на века!
Но все равно щемит, пронзает,
как не рожденная строка,
как детское святое горе, –
тот, ни тогда и ни потом
на Савкиной пушистой Горке
его не выстроенный дом…
«Есть национальные святыни…»
Есть национальные святыни, –
к ним любовь щемящая не стынет.
Скажешь: Пушкин…
Выдохнешь: Есенин.
Блок…
Души спасенье.
Потрясенье.
Проясненье пятен светлых, темных
на полотнах жизни многотомных.
Поясненье: всем, что жизнь и значит,
до рожденья ты рожден и начат.
В этом мире есть за что сражаться
со времен минувших и доныне,
есть за что душе живой держаться…
Есть национальные святыни!
Есть чему восторженно дивиться,
с добрыми соседями делиться,
зная, что живешь ты не в пустыне…
Есть национальные святыни!
«Сойди с холма и затеряйся разом…»
Сойди с холма и затеряйся разом
в траве, коль мал, и в чаще, коль велик.
Сойди с холма! – велят душа и разум
и сердце опустевшее велит.
Наполнит вдох цветенье диких вишен,
прильнет к ногам грибная полутьма…
Ты зря решил, что вознесен, возвышен
лишь тем, что озираешь даль с холма.
Сойди с холма – и станет небо шире,
и будет жизнь такой, – сойти с ума!
И ты поймешь, как много мира в мире.
Он звал тебя давно сойти с холма.
А этот холм, что пред тобой маячит,
где был как будто к звездам ближе ты,
он ровным счетом ничего не значит
для жизни в измеренье высоты.
Он – не вершина, он – лишь холм, не боле,
но будешь с ним в соседстве неплохом,
коль обретешь свой лес и дол, и поле,
и даже по-иному – этот холм.
И все, как надо, в сердце соберется,
и все тебе подскажет жизнь сама.
Пусть на холме останется березка –
твой постовой… А ты – сойди с холма.
Туманен и росен,
осенний рождается день.
Печалит не осень –
уход несравненных людей.
Не то, чтоб дружили,
не близкие и не родня,
но – были, но – жили,
и тем утешали меня.
На них – не молиться –
летать под защитным крылом!
И как примириться,
что это блаженство – в былом?
Вседневное горе,
всежизненная беда,
сиротская доля –
без этих людей навсегда.
И даже в природе,
что нам заменяет творца,
от этого вроде –
намек на возможность конца.
Встревоженно желтое,
впечатано солнце в зрачок.