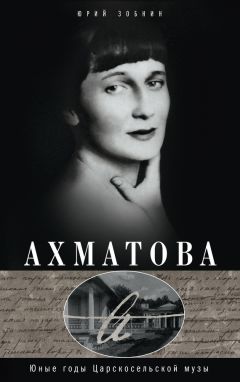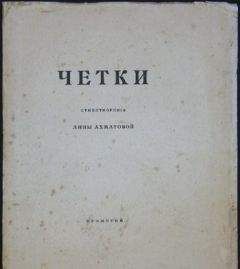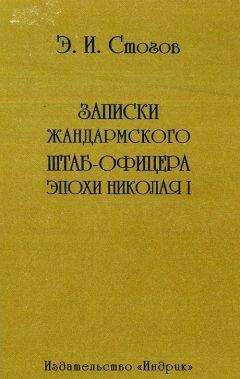Если постоянным спутником Ахматовой в первых евпаторийских прогулках, в самом деле, был Николай Михайлович Мешков, то их беседы смело можно числить вехой в её литературном становлении. Ахматова азартно спорила с собеседником и даже заключила некое «пари», предметом которого стали обсуждаемые стихи (через год, в письме Штейну, она признает себя побеждённой, из чего можно заключить, что речь шла о грядущих публикациях и, вероятно, литературной известности). Под впечатлением от этих споров Ахматова даже написала «маленькую поэму» (до нас не дошедшую). Впрочем, Мешков мог делиться с ней не только эстетическими впечатлениями: совсем недавно, в январе, он принимал участие в московских уличных волнениях и некоторое время провёл в легендарной Таганской тюрьме… К сожалению, то был не последний опыт тюремного заключения в жизни этого яркого человека, чья судьба, возможно, ещё пересекалась с судьбой Ахматовой, не оставив, правда, на сей раз никаких заметных следов[279].
На излёте августа Евпатория, и без того малолюдная, казалась совсем пустынной. Ахматова, так и не получившая за лето никакой весточки от Голенищева-Кутузова, рвалась в Царское Село. Молчание Владимира Викторовича она, разумеется, воспринимала, как указание на некую беду, свершившуюся на полях дальневосточных сражений. Разузнать тут что-нибудь было возможно только в столице, и евпаторийские дни не могли не напоминать ей пребывание на гвоздях или углях.
Между тем как раз в этом плане волноваться было нечего. После Мукденского сражения обе враждующие сухопутные армии вплоть до лета не выказывали желания наступать. Русские, прочно расположившись на новых позициях эшелонами в глубину, постоянно принимали пополнения, доведя к лету численность своих сил до полумиллиона бойцов, вооружённых, помимо прочего, новейшими образцами скорострельного оружия и гаубичной артиллерией. А японцы, продемонстрировавшие под Ляояном и Мукденом чудеса храбрости и самопожертвования, были вместе с тем обескровлены огромными потерями, уступали противнику в численности чуть не вдвое и не имели ни подходящих коммуникаций, ни, главное, средств, чтобы выправить положение. Даже отставка Куропаткина – в марте Алексей Николаевич был уволен от должности главнокомандующего и назначен (с понижением) командующим 1-й Манчжурской армией – ничего не изменила. Место его занял генерал от инфантерии Николай Петрович Линевич (ранее командовавший этой самой 1-й армией), недавний покоритель Пекина[280] и здравомыслящий патриот, продолживший линию на истощение Японии, взятую предшественником. Это была политическая «рокировка», никак не менявшая общей стратегии боевых действий. Понимая объективную безысходность положения, японцы уже в апреле 1905 года обратились к посредничеству США, предлагая мир. Линевич и Куропаткин заклинали Петербург помедлить с переговорами и, вероятно, окончательно переломили бы весь ход событий, не случись Цусимы. 24 мая собранное Николаем II в Царском Селе Особое совещание под впечатлением от морского разгрома вынесло решение о прекращении войны[281].
Но и во время мирных переговоров в американском Портсмуте любой намёк на возможность возобновления боевых действий мгновенно парализовал усилия японских дипломатов, рассчитывавших на значительную контрибуцию (уплату военных издержек) и существенные территориальные уступки противной стороны. Более того, огромные силы, накопленные Куропаткиным и Линевичем в Манчжурии и готовые в любой момент нанести удар, позволили главе русской делегации С. Ю. Витте (весьма неприязненному к обоим генералам[282]) объявить на первом же заседании, что, поскольку война не закончилась, на собравшейся конференции «нет ни победителей, ни побежденных»!
В результате заключенный 23 августа (5 сентября) 1905 года между Японией и Россией Портсмутский договор заставил весь мир говорить о «первой русской победе после более нежели годовой войны и сплошных поражений» (Витте). В Токио вместо ожидаемых победных торжеств немедленно вспыхнула кровавая народная смута, открывшая собой в японской истории т. н. «эру народного насилия» (постоянную череду локальных беспорядков и массовых протестов), затянувшуюся на тринадцать лет и вылившуюся в 1918 году в охватившие всю страну «рисовые бунты». Но и для России внезапная «ничья», возникшая в итоге после стольких потрясений и тревог, уже мало что решала. Маховик «эры народного насилия» был раскручен здесь ещё в военные месяцы, и остановить его не мог даже хитроумный Витте, получивший после возвращения из Портсмута графский титул. Оставалось лишь использовать высвобождающуюся энергию, вогнав её в какую-нибудь искусную конструкцию, подобную ходовой части парового локомотива.
Профессиональный железнодорожник Витте хорошо представлял, как неистовое дурное пламя из паровозной топки, готовое пожрать всё и вся, совместными интеллектуальными, волевыми и физическими усилиями инженера, машиниста и кочегара укрощается и преобразует свою хаотическую ярость в направленное действие водяного пара, движущее поршень и шатуны, вращающие колёса. Сразу после триумфального прибытия председателя Комитета министров в Петербург (16 сентября) стихийные протесты, митинги и стачки, повсюду сотрясавшие страну с лета, вдруг превратились в стройную систему действий, вдохновлённую непонятно откуда взявшейся единой творческой волей. А началось всё, действительно, с любимых Витте – и не без взаимности! – железнодорожников, собравшихся 20 сентября в столице на свой всероссийский профессиональный съезд. Этот не слишком приметный форум, созванный по инициативе главы Министерства путей сообщения князя Хилкова для решения вопросов внутренних, вдруг преобразился в гневный конвент, открыто призвавший всё русское общество к переменам. Невероятная смелость делегатов заставила встрепенуться журналистов, а за ними всю читающую Россию, ибо в официальных газетных отчётах замелькали вещи немыслимые! 7 октября в Москву, и без того взбудораженную забастовками печатников Сытина и булочников Филиппова, просочились некие петербургские слухи, что очередное заседание железнодорожного съезда готовится разогнать полиция. Это была беспочвенная сплетня, но… на следующий день забастовали все дороги Московского железнодорожного узла и появились на редкость чётко сформулированные требования «свободы собраний, сходок, союзов, организаций, совести, печати и стачек, неприкосновенности личности и жилища», а также «созыва народных представителей с законодательной властью, выбранных всем населением страны всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием, без различия национальности, пола и вероисповедания, для выработки новых основных законов страны в интересах трудящихся классов». 9 ноября эту удивительную «инициативу снизу» в качестве программы действий принял в Петербурге Железнодорожный съезд (который никто и не думал разгонять!), а 12 ноября тот же съезд объявил о проведении ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАБАСТОВКИ. Двумя днями позже движение ВСЕХ поездов на ВСЕХ магистралях России замерло.
Действия железнодорожников, представлявших на тот момент самую сплочённую и массовую группу высококвалифицированных работников всех уровней, оказались побудительным примером и ориентиром для остального множества профессиональных союзов и стачечных комитетов. Более того, к протестам присоединились… владельцы крупнейших заводов и фабрик, отдавшие указания остановить работу. Прекратили работу суды и банки. Забастовало в полном составе даже Министерство финансов (бывшая вотчина Витте в российском правительстве). К 15 октября ВСЯ страна замерла, словно по единой команде, торжественно ожидая финала столь невиданной политической демонстрации, первой и последней за всю тысячелетнюю историю России. Бездействовала полиция, ибо их «подопечные» революционеры не имели к происходящему никакого отношения. Бездействовали и революционеры, которых Великая забастовка застала врасплох, в бегах или за границей. Бездействовали двор и администрация Николая II, чьи усилия последних месяцев по созданию «карманного парламента» (так называемая «булыгинская дума») для успокоения растревоженной вой ной российской общественности теперь шли прахом…
Государь вызвал в Петергоф Витте.
Ещё 9 ноября, в самом начале событий, тот представил доклад о том, что «Россия переросла форму существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». Теперь, явившись в приморскую резиденцию на специально нанятом пароходе (другого транспорта в эти дни сюда из Петербурга не было), Витте привёз проект «Высочайшего Манифеста», странно повторяющий формулировки программы безвестных железнодорожных забастовщиков:
1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.