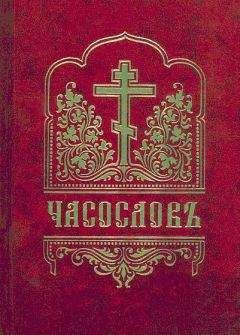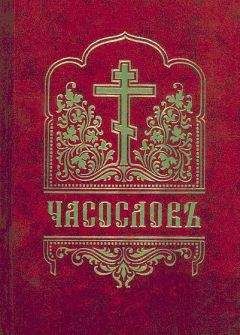которое даруют неохотно,
а если все пути бесповоротно
запутались - примкнуть к чужим скитаньям,
прибиться к старцам - благостным созданьям
и видеть, как из пышной белой пены
нечесаных бород живым преданьем,
как голый остров, вынырнет колено.
Слепцов мы обогнали, и вперед
поводырями смотрят, как глазами.
Мы обогнали женщин с животами,
и всякий повстречался нам народ.
Я чувствовал: идет моя родня:
вот с этим - мог бы стать я братом кровным,
а с тою - жить в союзе полюбовном;
собаки их не лают на меня.
x x x
Ты днем - сама недостоверность
и гул далеких голосов.
Ты - молчаливая безмерность,
когда замолкнет бой часов.
Но к вечеру, чуть станет тише
и день, слабея, изойдет,
растешь Ты, Господи. И вот
Твой дом - как дым над каждой крышей.
x x x
На богомолье. С каменного ложа,
лишь колокол зарю провозвестил,
свалившиеся давеча без сил
со смертью, Боже, тьма ночная схожа
всем скопом, всей толпою поднялись:
поклоны бьют брадатые мужчины,
и стягивают дети с плеч овчины,
и на реку спешат, полны кручины,
молчальницы, чья родина - Тифлис.
По-мусульмански чтут они Христа,
по-христиански ожидая чуда;
вода в ладони входит, как в сосуды,
и, чистая, вливается в уста.
Они сейчас не только моют лица,
они дают своей груди напиться,
горстями к ней лицо реки прижав,
как будто эта влага - плач по нам,
по всем на свете, по земным скорбям.
И эти скорби здесь невесть зачем,
и ты не знаешь, кто они и кем
когда-то были. Может, мужиками?
Приказчиками в лавке мелочной?
Монахами, ленивыми во храме?
Блудницами? Бесстрашными ворами?
Зачем они с увядшими глазами
за стоном стали, словно за стеной?
Премудрые, опальными князьями
все почести слагая до одной.
Печальники, на них печать пустыни,
где память пребывает и поныне,
как будто не прошло и пары дней;
изгнанники, с рассвета до заката
гонимые откуда-то куда-то
печалью, становящейся крылатой,
едва они склонятся перед ней.
Избранники, любви переизбыток
сплетает голоса в единый хор,
вы на коленях выползли из пыток,
полотнища хоругвей, до сих пор
таимые и скатанные в свиток,
развешены отныне навсегда.
И многие глядят теперь туда,
где страждущих паломников жилище,
монах оттуда вырвался дурной:
вся в клочьях ряса, брызжет рот слюной,
лицо полно больной голубизной
и черным бесам стало пищей.
Он на две части тело преломил,
послав лицо в стремительном поклоне
на землю, и сырую землю пил,
и бил ее руками что есть сил,
и вот она под ним забилась в стоне,
и медленно припадок проходил.
И он взлетел, как будто крыльям птицы
велело исступление раскрыться,
ему внушая: птицей в небе станешь.
В худые руки взяв себя всего,
марионеткой тощей он забился
и думал, что с землею распростился,
и сильные крыла несут его,
и мир, как шар, в сторонку откатился...
И вдруг, не понимая ничего,
в зеленом океане очутился
на самом дне страданья своего.
И вот поплыл, и юркой рыбой стал,
и видел: постепенно под водой
медузы налипают на коралл,
и деве моря косу расчесал,
струясь, поток, как гребень золотой.
И на берег он вышел лишь для той,
что умерла в девичестве. Она
иначе бы вошла совсем одна
в чертоги рая, и совсем чужая.
Он закружился в пляске, провожая,
и тотчас, этой пляске подражая,
вокруг него пустились руки в пляс.
Но вдруг остановился он, заметя,
что здесь в игру вступило нечто третье,
не верящее пляске напоказ.
И понял он: теперь черед молиться.
Приблизившийся ведом ясновидцу,
венец великий, он прощает нас;
мы жнем его, как спелую пшеницу,
как руки, мы протягиваем лица,
когда к нему подходим вереницей,
мы - ноты в песне, слышимой для глаз.
И, потрясенный, он отбил поклон.
Но старец встал, как будто кротко дремля,
и не глядел, хоть это был не сон.
Монах с такою силой вжался в землю,
как будто был пожаром опален.
Но равнодушье плавало в глазах.
И, к дереву припав, дурной монах
вокруг ствола, как платье, обернулся.
Но старец хоть не спал, да не проснулся.
Тогда монах занес себя высоко,
как меч над головой заносит враг,
и ранил, ранил, резал как осока,
и рухнул, как подкошенный, в овраг.
Но старец не ответствовал никак.
Тогда монах содрал остатки платья
и пал, как ствол с ободранной корой.
И вот Он: вот! И вот Он, как дитяти,
сказал: Ты знаешь, Кто перед тобой?
Тот знал. И безмятежно, как в объятье,
он скрипкой лег у старца под скулой.
x x x
Нальется барбарис багряным светом,
и астры, старясь, слабо станут в ряд.
Кто на исходе лета не богат,
весь век прождет того, что было летом.
Кто ночью, не забывшись ни на миг,
прислушается к сердцу, где всечасно
то плач, то шепот слышится; то крик,
и тьма теней готовит сон ужасный,
в смятенье понимает: он старик.
Он будет жить, не ведая мечты,
и ложью все покажется ему;
и ты, о Боже. Тяжкий камень Ты,
и тяжким камнем тянешь Ты во тьму.
x x x
Не удивляйся. Мой, мое, моя
они всему на свете говорят.
Так ветер мог бы, рыская в ветвях,
сказать: мой сад.
Они глядят
на вещи и сжимают их в руках,
но те в руках не могут оставаться
и, вспыхнув, ярким пламенем сгорят.
Твердят "мое", как кто-нибудь назвал
"дружищем" князя в споре с мужиками,
отлично зная: князь не услыхал.
Твердят "мое" о городе и храме,
и это слово слаще всех похвал.
Твердят "мое", включают в обиход,
приобретают и суют в карман.
Какой-нибудь безвкусный шарлатан
и солнце так, пожалуй, обзовет.
Твердят они: мой дом, моя жена,
и отповедь как будто не слышна,
хотя жена, и дом, и все кругом
глухие стены, - можно только лбом,
приблизившись, о стены расшибиться.
Такой удел - найти и ошибиться
ждет только лучших. Ибо остальные
и не желают замечать стальные
преграды меж вещами и собой,
таящиеся в малости любой,
и нищеты своей не замечают,
хоть женщиной они не обладают
в такой же точно мере, как цветком.
О Господи, Ты с ними незнаком.
И даже тот, кто тлеет угольком
в Твоем дыханье и к Тебе влеком
всем сердцем, всей душой - забудь о нем.
И если кто-нибудь Тебя возьмет
в свою мольбу, в свою людскую дрожь:
вновь на восход
Ты, гость, уйдешь.
Удержит кто Тебя? Кому дано
владеть Тобой? Из наших рук бежишь.
Все слаще Ты становишься, вино,
но лишь Себе вовек принадлежишь.
x x x
Ночами я выкапываю клад,
который под землею спрятал Ты.
Все - нищета и немощь нищеты,
а красоты еще не видел взгляд.
Но путь к Тебе чудовищно далек.
Нехоженый, зарос густой травой.
А Ты один. Ты, Боже, одинок.
Никто не слышит дальний голос Твой.
И как я руки до крови сотру,
держу их, словно ветки, на ветру
и деревом врастаю в небосвод,
которое ветвями влагу пьет,
как будто Ты разлился надо мной,
все небо в нетерпении объемля,
но сызнова, расслышав зов земной,
с далеких звезд Ты падаешь на землю,
как нежный дождик раннею весной.
КНИГА ТРЕТЬЯ
О БЕДНОСТИ И СМЕРТИ
1903
x x x
Быть может, залегло рудою тело,
и в сердце гор по жилам я проник;
не знает глубина моя предела;
все близкое вокруг окаменело,
иссякла дальность, как родник.
Пока еще блуждает мысль несмело,
даруй мне скорбь, чтобы прозрел я в миг;
как мал я в темноте! Как Ты велик!
Дай длань Твою изведать мне всецело!
Вмести меня и весь мой вечный крик.
x x x
Утес неколебимый, неизменный,
необитаемый и безыменный,
увенчан снегом со звездою пленной,
струишь Ты вечный запах цикламена
(других благоуханий в мире нет).
Глашатай всех вершин, Ты минарет
(куда взойти не смеют муэдзины),
так значит я проник в Твои глубины,
в Твоем базальте скрылся, как металл?
Собой заполнил я Твои морщины,
своею твердью плоть мою Ты сжал.
А может быть, я страхом окружен?
Быть может, в страх, рожденный городами,
по горло я Тобою погружен?
Поведать бы правдивыми словами
о них, забывших разум и закон.
И вихрем Ты дохнешь сквозь глубь времен,
всю шелуху отвеивая вон.
Ты хочешь от меня правдивых слов,
и языком овладевают звуки,
рот открывается, как рана, в муке,
а по бокам, как две собаки, руки,
не откликающиеся на зов.
Я весь орудие Твоей науки.
x x x
Дай мне стеречь Твои просторы,
стоять и слушать камень Твой,
в Твоих морях наполнить взоры
необозримой пустотой;